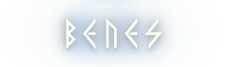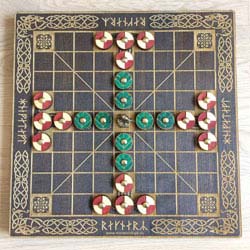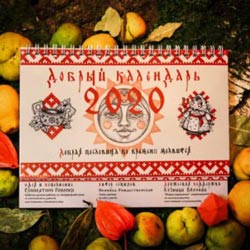Без рубрики
Значение культурного наследия Славяно-Ариев
Москва и град Петров, и
Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы,
От Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат,
От Ганга до Дуная…
Вот царство русское…
Ф.И. Тютчев
Славяно-Арии в VIII-III тыс. до н.э. создали Трипольскую культуру, положившую начало эпохе бронзы: об этом говорят все бронзовые предметы — топоры, мотыги, ножи, украшения, сохранившие старое обличие более ранних каменных изделий Трипольцев.
Объединение Трипольцев времён неолита, было хорошо организованным патриахальным самодержавным государством духовного типа, который Греки называли «гиперборейским» [1]. Римские авторы писали об этом времени как о «золотом веке» человечества. Найденные в могильниках X-V тыс. до н.э. с большим искусством выполненные булавы с резной отделкой, шейные цепи и венцы, принадлежащие исключительно вождям, являются ещё одним доказательством того, что первые начала государственного правления во главе с венценосными вождями появились на Руси задолго до того, как к такому строю пришли другие народы.
Но уже в это время государством вместо прежних патриархов — ведунов стали править витязи — монархи, создавшие постоянное войско, которое следило за порядком внутри государства и за его безопасностью. Основным оружием воина того времени были копьё, боевой топор, небольшой меч-акинак и лук. Для подвижности войско было конным, либо оснащённым лёгкими боевыми повозками. Поставки для войск при передвижении подсобных лекарских частей и кухни осуществлялись возами, в которые впрягались волы, а в качестве постоянного запаса продовольствия войско имело при себе стада скота. Воины жили в подвижных лагерях, что впоследствии наблюдалось у казаков. Их перемещение вдоль границ часто замечали иноземные купцы и странники, что дало повод к свидетельствам о русских кочевниках, «людях на возах» — Гамаксобеях.
Новый уклад жизни был связан с использованием бронзовык изделий. Именно тогда на трипольских глиняных горшках появляется своеобразный узор: сырой горшок перед обжигом обматывался витой верёвкой, вследствие чего на горшке оставался оттиск в виде узорного рисунка. Иногда для украшения применялся тонкий стержень с намотанный на него шнуром. Такой узор был назван «шнуровым» (поэтому век бронзы называют ещё «эрой шнуровиков»). Он, подобно спиральному, должен был означать извивы «змеи-времени» и охранять от нечисти.
«Шнуровиков» считают Славяно-Ариями, заложившими основу как всей европейской культуры, так и культур Ирана, Месопотамии, Сирии, Малой Азии и Индии.
Археологические находки говорят о том, что «шнуровики» появились в среднем Приднестровье, являясь потомками неолитных земледельцев России. От Трипольцев «шнуровики» взяли не только внешний вид сосудов, но и очертания боевых топоров, поэтому их ещё называют «людьми боевых топоров». Топоры «шнуровиков» — это преобразованные трипольские мотыги, вначале предназначавшиеся для обработки полей и лишь по-необходимости ставшие боевым оружием.
Зародившиеся в самом центре России «шнуровики» расселились на обширных землях, образовав новые сообщества, ставшие впоследствии основой различных Славяно-Арийских народов. Главнейшими культурными средоточиями бронзового века являются майкопская, кубанская [2], колхидская и триялетская культуры.
Большой интерес представляет майкопская культура. Время её появления — около 3 тыс. лет до н.э. В Майкопе, в местности Новосвобидня, найдены богтейшие царские захоронения. В них обнаружены золотые и серебряные предметы, усеянные драгоценными камнями и выполненными с высоким художественным мастерством, указывающие на тесную связь Кубани с Ираном, Индий, Месопотамией, Сирией, Малой Азией и кроме того — с Троей и землями европейских «шнуровиков», то есть с другими местами расселения Славян. Майкопская культура выросла из местного, так называемого «ямского» населения, которое занималось хлебопашеством. В тех же областях, где находились месторождения меди, стал развиваться металлургический промылсел. Так образовались производственные центры в Ульском, Пятигорске, Нальчике, Верхней Рутце, Верхней Кубани. Крупные культурные центры бронзового века Закавказья находились в Колхиде и Триялете. Население этих мест говорило, как и другие Славяно-Арийские народы, на языке, почти неотличимом от старославянского, то есть русского языка. Об этом свидетельствуют письменныю памятники, найденныю археологами [3].
Трипольцы по уровню развития значительно опережали своих соседей. Об этом гворят находки археологов на берегах Дуная. Здесь обнаружено большое число построенных по планам жилищ и захоронений, множество различные орудий, найдены каменные пластины и плита с вырезанными на них знаками, а также величественные каменные изваяния. Всё это датируется концом X — началом VII тыс. до н.э. и говорит о том, что письменные памятники Трипольцев старше шумерских на целое тысячелетие.
Близ Варненского озера было обнаружено захоронение. Радиоуглеродный анализ его изделий из меди и золота показал, что они изготовлены в 4600-4200 гг. до н.э., то есть древнейшие в мире, причем чистота золота соответствует природной и изумляет высочайшим качеством кузнечной и узорной обработки. Кроме золотых предметов, в захоронении найдено множество каменных и медных орудий труда: разнообразные топоры и долота. Из глиняных изделий наибольший интерес вызывает тёмное полированное блюдо, в центре которого нанесён золотистый рисунок из четырёх свастик под прямым углом одна к другой, что характерно для Славяно-Арийской традиции [4].
Это лишь малая часть обережных свастик, обнаруженных археологами.
У Трипольцев было хорошо развито не только глиняное производство, о чём говорит использование ими гончарного круга, но и ткачество. Найдены многочисленные пряслица для веретён и остатки ткацких станков, на которых изготовлялись льняные и шерстяные ткани. Венедские горы (Карпаты) Славяно-Арии сделали средоточием производства металлов и уже в то время применял сварку для изделий из меди.
Доктор исторических наук Н.Р. Гусева утверждает, что культура жителей Триполья, которые были земледельцами и скотоводами, широко отразилась в узорах. Прослеживается поразительное, порой точное до мельчайших деталей, сходство украшенных предметов быта Славянских народов и Арьев (чьё искусство до наших дней во многом сохраняется в Индии без изменений). Сделав небольшое отступление, скажем лишь, что нельзя обойти вниманием совпадение северных русских узоров с индийскими. В них встречаются древнейшие знаки, просматриваемые и в культуре Триполья, и в андроновской культуре. Например, свастика — знак солнца — сохранившаяся до нашего времени в Вологодской, Архангельской и других областях в старых вышивках, на обрядовых предметах, воротах, дверях домов и т.д.; ромбы и квадраты с точками внутри — обозначение засеянного поля — знаки плодородия в женских изображениях с поднятыми руками [5].
1, 2, 3 — славянские узоры; 1а, 2а, 3а — индийские узоры.
Расцвет трипольской культуры пришёлся на III тыс. до н.э. и сопровождался резким увеличением населения. И, так как самые крупные поселения быши рассчитаны на 10 тысяч человек (по Ведическому мировоззрению природа не в состоянии сохранить людей, если в одном месте проживает больше этого числа, поэтому на русском языке 10 тысяч человек называется «тьма народа», т.е. темнота, неведение), в связи с ростом населения началось быстрое освоение новых областей в среднем Приднепровье, в северной и южной частях Бургского бассейна. Позднее трипольские поселения доходят до Русского (Чёрного) моря в низовьях Южного Буга и Днестра, по Пруту их посёлки распространились до Дуная. Около 6 тысяч лет тому назад Славяне-Венеды устремились через Балканы в Малую Азию и дошли до Персидского залива. Славяно-Арии, более 6 тысяч лет тому назад поселившиеся на землях Двуречья — между Тигром и Евфратом, получили у южнылх народов название «Сумеры» или «Шумеры» — вышедшие из сумеречной, то есть северной, страны. Найденные археологами шумерские глиняные таблички были покрыты знаками, напоминающими образцы письменности, обнаруженной на Дунае, близ местечка Тертерия. Но они были изготовлены на 1,5 тысячи лет позднее, чем тертерийские — эти даты показал современный радиоуглеродный аналз.
Об этом переселении Славяно-Ариев говорится и в Велесовой книге: «…ушли мы из Семиречья с гор Арийских из Загорья и шли век. И так как пришли к Двуречью, мы разбили там всех своей конницей и пришили к земле Сирии. И там остановились, а после шли горами высокими, и снегами, и льдами, и притекли в степи со своими стадами. И там Скифами перво-наперво были наречены наши пращуры… Мы не боимся смерти, ибо мы — славные потомки Дажьбога, родившего нас через корову Земун. И потому мы — Кравенцы: Скифы, Анты, Русы, Борусины и Сурожцы. Так мы стали дедами Русов, и с пением идём во Сваргу синюю…» [6].
Исследователям древности известно, что почти вся северо-восточная часть Европы, часть Азии между Аральским и Каспийским морями от 45 до 55 градусов северной широты и большая часть Малой Азии была некогда занята народом, который Греки называли то Скифами, то Сарматами, то Сколотами, а в Византии известным под именем Руссов.
Длителная засуха, поразившая в конце III — начале II тыс. до н.э. земли, на которых Славяно-Арии занимались скотоводством, вынудила их начать переселение в сторону Ирана и Индии. Древнеиндийский ведический сборник Ригведа, а также другие древнейшие тексты сообщают нам о том, что Славяно-Арии прошли 16 стран-становищ (отсюда: Узбеки-стан, Паки-стан, Турке-стан и т.д.) и дошли до самой Индии (Индо-стана). Именно в это время — с III по II тыс. до н.э. — Славяно-Арии расселлись на обширнык просторах Евразии, при этом их южные границы проходили через Индостан, Палестан и Египет.
В связи с этим кандидат филологических наук В. Осипов в статье «Гарун-Аорон Горыныч — Парадокс сравнительной лингвистики» пишет: «Среди множества йеменских лиц с ярко выраженными южноаравийскими чертами встречаются такие, которые ты вроде бы где-то видел. Не то в Тамбове, не то в Калуге. Вот только бы излишнюю смуглость убрать, да глаза и волосы были бы посветлее.
…Примерно в 30 километрах к юго-востоку от Саны находится местность с названием «Страна Русских» (Биляд эр-Рус). Никто не помнит, когда и почему так навали этот район, как никто не помнит, почему огромный солончак на юго-востоке Аравии получил название «Отцы Русских» (Аба эр-Рус).
Не только зыбкие субъективные ощущения, но и вполне конкретные факты указывают на то, что в памяти жителей Аравии сохранилось воспоминание о неких «бледнолицых братьях». Предки гордых аравийских бедуинов называли себя «ахмар» [7], что значит «красный, рыжий». Есть целый район недалеко от Йеменской столицы, выходцы из которого носят «фамилию» Ахмар. Светлый цвет кожи и волос издавна рассматривался как признак знатности происхождения. То же самое можно сказать и про берберов Сахары. Представление о превосходстве, высоком социальном ранге, благородстве прочно ассоциироваось у них со светлым цветом кожи, волос, глаз. «Светлоокрашенными»» в произведениях бедуинских поэтов выступают герои, воины — богатыри, вожди, цари. «Сколько отважных воинов среди них, надёжных, чистых, сияющих белизной, как белоснежная газель» — писал знаменитый бедуинский поэт VI века Антари бен Шаддад. В Коране образ людей с белыми лицами получил религиозное осмысление как образ людей добродетельных. В арабский язык вошло устойчивое выражение «да осветлит Аллах лицо твоё!», то есть сделает тебя почётным, уважаемым.
…В арабском языке немало слов, звучащих почти так же, как и соответствующие им по смыслу русские слова. Такие, скажем, как «изба»», «сундук»», «корабль»», «доля»», «род», «топор»», «кусаки»». В Йемене обнауживаются русскозвучащие слова со значениями «голубь», «капуста»», «персик»». А ведь слова типа «персик» (т.е. тот, что из Персии) скроены явно по русской модели. На острове Делос в Эгейском море было найдено изображение главного южноаравийского бога Вадда, бога Луны. Если вспомнить, что лунное божество отвечало за водоснабжение, то созвучие «Вадд — вода», возможно, не является случайным. Пересыхающие водотоки йеменцы называют «вади», что опять-таки созвучно слову «вода». В арабском Магрибе такие водотоки или высохшие русла рек известны как «вэды». Тот же общий индоевропейский корень обнаруживается и в литературном арабском слове «таваддаа» совершать омовение, предаваться воде.
…А вот в назваини города и государства Кувейт (буквально — «Маленькая крепость») тот же самый корень «кут», что и в русском слове со значением «огороженное место, укрепление» — «закуток».
…В именах древнейших богов Египта слышны отголоски славянских корней. К этому можно было бы отнестись как к курьёзу, если бы не наличие вполне ощутимых смысловых совпадений. Бог Птах обнаруживает черты летающего бога (пташки), поскольку изображался в оперении и в лётном шлеме. Сфера обитания Гора — небо, высота, а «гра» — это и есть возвышенность. Сокол, ипостась Гора, называется по-арабски чуть ли не русским словом «сокр». Заметим попутно, что арабское имя Гарун (халиф Гарун ар-Рашид) и еврейское Аарон — оба переводятся буквально как «горный, с горы», то есть, по — существу, Горун, Горыныч. Имя богини Исиды созвучно слову «сидеть». И, действительно, это имя означало «трон, место», а богиню предпочитали изображать сидящей. Простое русское имя Сидор оказывается всего лишь упрощением от Исидор (буквально: «дар Исиды»). Имя египетской богини Хатхор трактуется как «дом Гора». Ну чем не «хата Гора»? Богиня истины и порядка Древнего Египта Маат вошла в русскую поговорку как «правда — матка» [8].
Как тут не вспомнить слова М.Ю. Лермонтова из поэмы «Сашка»:
Не веры я ищу, я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,
Где свиньи и вино так ныне редки
И где, как пишут, жили наши предки!..
Среди множества преданий, наболее известны людям, — древнеиндийский эпос Махабхарата. Это «Сказание о велких воинах — характерниках» («мах» — велкий; отсюда: размах, махать и т.д.; «б» — большой; «хара» — энергетический пупочный центр; отсюда: характер, харчи, харакири — подъём энергии хары к Ирию — Небесному Царству русского народа и т.д.) считается величайшим памятником культуры Славяно-Ариев. Махабхарата содержит почти 200 тысяч строк стихов в 18-ти книгах. В одной из них, названной «Лесной», описаны свещенные источники (криницы) — реки и озёра страны Славяно-Ариев, названной эпосом «Бхаратой», то есть землёй Да’Арийцев и Х’Арийцев. Крупнейшая река Центральной России — Волга вплоть до II века новой эры называлась Ра, в Авесте её называют «Ранха», а в Ригведе и Махабхарате — «Ганга».
Как повествует Авеста, по берегам моря Воорукаша («Молочного моря» Махабхараты, то есть Белого моря) и Ранхи (Волги) располагался ряд арийских стран — от Арьяна-Веджа (Вежа, Веда) на Крайнем севере (Гипербореи) до семи индийских стран на юго-востоке за Ранхой. Духовным центром этих стран, как утверждает Ригведа и Махабхарата, явлются земли между Гангой и Ямуной, на Курукшетре. О них говорится: «Прославленная Курукшетра. Все живые существа, стоит только прийти туда, избавлются от грехов», или «Курукшетра — Светой Алтарь Брахмы (Дажьбога); туда являются светые брахманы-ведуны».
Древнеиндийские предания называют Ямуну единственным крупным притоком Ганги (Волги), текущим с юга-запада, что соответствует современной Оке. Неслучайно притоки Оки и реки Волго-Окского бассейна носят названия: Ямна, Ям, Има, Имьев, Ярань (Солнечная, Светлая), Урга (Движение Света), Сура (Солнечная), Алатырь (Свещенный Камень), Лама (Духовныш Учитель), Мокша (Просветление, Одухотворение) и т.д. Согласно Славяно-Арийским текстам древней Индии, вторым именем реки Ямуны было Кала, и до сих пор устье Оки называется местными жителми устьем Калы.
В Ригведе и Махабхарате упоминаются и другие крупные реки и города. Так, недалеко от истока Ямуны (Оки) размещается исток реки Синдху («Синдху» на санскрите — поток, море), — современного Дона — текущей на восток и юг и впадающей в Червонное (Чёрное) море. В ирландскихи русских летописях Чёрное море также называется Черёмным, то есть Красным. Поэтому его северная часть до сих пор носит это название. На берегу этого моря жил народ Синды и располагался город Синд (Анапа). Горд Мануша соотносим с современной Москвой, город Рама географически соответствует Коломне, Сита — Серпухову, Шива — Рязани, Сома — Суздали, Вамана — Мурому и т.д.
В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над именами которых тысячелетия оказались не властны. Для доказательства этого не требуется особых усилий: достаточно сравнить названия рек Поочья с названиями «свещенных криниц» в Махабхарате, точнее в той её части, которая известна как «Хождение по криницам». Именно в ней дано описание более 200 свещенных водоёмов Славяно-Арийской страны Бхараты в бассейнах Ганги и Ямуны! (по состоянию на 3150 г. до н.э.):
| Криница | Река в Поочье (бассейн р.Оки) |
|---|---|
| Агастья | Агашка |
| Акша | Акша |
| Апага | Апака |
| Арчика | Арчиков |
| Асита | Асата |
| Ахалья | Ахаленка |
| Вадава | Вад |
| Вамана | Вамна |
| Ванша | Ванша |
| Вараха | Вара |
| Варадана | Варадуна |
| Кавери | Каверка |
| Кедара | Кидра |
| Кубджа | Кубджа |
| Кушика | Кушка |
| Мануша | Манушинской |
| Париплава | Плава |
| Плакша | Плакса |
| Оз. Рама | оз. Рама |
| Сита | Сить |
| Сома | Сомь |
| Сутиртха | Сутертки |
| Тушни | Тушина |
| Урваши | Урвановский |
| Ушанас | Ушанец |
| Шанкхини | Шанкини |
| Шона | Шана |
| Шива | Шивская |
| Якшини | Якшина |
Экономист, эколог и географ А. Виноградов и кандидат исторических нак С. Жарникова утверждают, что совпадают не только навания свещенных криниц Махабхараты и рек Средней России, но и их взаимное расположение. Так и в санскрите, и в русском языке слова с начальной буквой «Ф»» чрезвычайно редки: из списка рек Махабхараты только одна река имеет «Ф» в начале названия — Фальгуна, впадающая в реку Царасвати. Согласно Славяно-Арийским текстам древней Индии, Царасвати — единственная большая река, текущая к северу от Ямуны и к югу от Ганги и впадающая в Ямуну у её устья. Ей соответствует только находящася к северу от Оки и к югу от Волги река Клязьма. Среди сотен её притоков только один носит название, начинающееся на «Ф»» — Фалюгин. Не смотря на 5 тысяч лет, это необычное навание почти не изменилось.
Другой пример. Согласно Махабхаате, к юге от свещенного леса Камьяка текла в Ямуну река Правени (то есть Пра-река), с озером Годовари. И до сих пор к югу от Владимирских лесов течёт в Оку река Пра и лежит озеро Годь.
Ещё один пример. Махабхарата расказывает, как мудрец Каушика во время засухи наводнил реку Пару, переименованую за это в его честь. Но далее эпос сообщает что неблагодарные местные жители всё равно называют реку Парой, и течёт она с юга в Ямуну (то есть в Оку). И до сих пор течёт с юга в Оку река Пара, которую местные жители называют так же, как и много тысяч лет назад.
В описании криниц пяти тысячелетней давности говорится о реке Пандье, текущей недалеко от Варуны, притока Синдху (Дона). Река Панда и сегодня впадает в крупнейший приток Дона — реку Ворону (или Варону). Описывая путь паломников, Махабхарата сообщает: «Вон Джала и Упаджала, в Ямуну впадающие реки» («джала»» санскр. — река). Это река Жала (Таруса) и река Упа, впадающие рядом друг с другом в Оку. В Махабхарате также упоминается текущая на запад от верховьев Ганги (Волги) река Саданапру (Светой Данапр) — Днепр.
В Махабхарате, Ригведе и Авесте постоянно упоминаются и жители Бхараты — Раса, Расьяне (Россияне), Руса (Русы). Эта страна имеет ещё одно, постоянно упоминаемое название — Свещенная, Светая или Светлая земля, а на санскрите «Руса» означает «светлая». В Махабхарате говорится, что к северу от страны Пандьи, лежащей на берегах Варуны, находится страна Мартьев. Но именно к северу от современных Панды и Вороны по берегам рек Мокши и Суры лежит и ныне земля Мордвы (Мортвы средневековья) — народа, говорящего на финно-угорском языке с огромным количеством русских, иранских и санскритских слов. Страна между Ямуной, Синдхом, Упаджалой и Парой называлась А-Ванти. Именно так — Вантит (А-Вантит) называли землю Вятичей между Окой, Доном, Упой и Парой арабские путешественники, византийские хроники и русские летописи. Махабхарата и Ригведа упоминают народ Куру и Курукшетру (дословно «Курское поле»). Именно в центре этого поля находится город Курск, куда «Слово о полу Игореве» помещает Курян — знатных воинов. Упоминается в Ригведе и воинственный народ Криви. Латыши и Литовцы так называют всех Русских — «Криви», по имени соседнего с ними русского рода Кривичей, чьими городами были Смоленск, Полоцк, Псков, нынешние Тарту и Рига.
Из всего вышеизложенного следует вывод — Славяно-Арии, некогда проживающие на землях центральной России и затем поселившиеся на землях индии перенесли на туземные реки и города названия рек и городов своей родины.
Славяно-Арии в своё время заселили не только Восток, но и Запад. Так, например, в конце III — начале II тысячелетия произошло переселение племён культуры шаровидных амфор. Среди памятников этой культуры встречаются серпы с кремневыми микролитами, их до сих пор находят на плодородных землях Эльбы, Одера, Вислы, Прута, Серета, Днестра, верховьев Западного Буга и восточной части Карпат.
На севере Венеды осели в Подмосковье (фатьяновская культура) и на берегах Венедского залива, на западе — на Британских островах и в Иберии. Сами Венеды называли себя Русскими, а по роду занятий — Скитами (от слов «скитаться»», «кочевать со скотом»») или Венедами (от слова «вено» — сноп), то есть жнецами.
В конце VII века до н.э. почти на всех землях евразийских степей утверждается в изготовлении предметов быта и украшений так называемый скифский звериный стиль, причём в таком законченном виде, который должен был пройти длительный путь развития.
В конце III века до н.э. центром Скифии был Крым. Столицей государства стал город Неаполь (находившийся в месте нынешнего Севастополя), основанный на реке Салгир на рубеже III-II вв. до н.э., как предполагают, скифским царём Скилуром. Наивысшего расцвета это царство достигло во II в. до н.э. В 140 году до н.э. Скифы разбили Греко-Бактрийцев, подчинили Ольвию, Керкинитиду и Прекрасную Гавань. К этому времени они построили в Крыму свои корабли и не только успешно торговали, но и боролсь с пиратством. Однако около 115 года до н.э. город Херсонес обратился за помощью к царю понтийского царства Митридату IV Евпатору. «Митридат, — писал Страбон, — охотно послал войска в Херсонес и стал воевать со Скифами, бывшими тогда под властью Скилура и его сына Палака. Он силой подчинил их себе и сделался властелном Боспора». «Бо спор» — место, земля, из-за которой возник спор.
Во второй половине I века до н.э. Скифы проникают в Пенджаб. Индоскифский царь Кадфиз I в 85 год до н.э. разгромил остатки Греков, а в 60 году до н.э. завоевал Кашмир.
В I веке н.э. наступат расцвет Скифо-индийского царства (Китайцы называли Индоскифов «Юей-ши»). Именно к этому времени относят появление записей «Махабхараты» — индийских ведических сказаний о Великих (Мах) Бхаратах — воинах-характерниках [9] и «Рамаяны» — сказаний о Раме, легендарном выходце из Даарии, возглавившем переселение Славяно-Арийцев на земли Индии и дошедшем до острова Шри Ланка. Там он победил великого демона Равану — гаваря серых паразитов, которые, прилетев на Землю, обосновалсь на острове Ланка и стаи скрещиваться с людьми. Приобретя таким образом внешнюю схожесть с людьми (мимикрировав), они стали захватывать земли других народов. Рама означает «лесной» (на Руси до сих пор лиственный лес называют раменным лесом) и «плечистый», ибо «рама» — плечи человека.
Во второй половине I века н.э., во время царствоваия Фарзоя, а затем Инисмея, Скифское царство ещё более усилилось. В знак своей зависимости Ольвия чеканила монеты этих царей и выплачивала им дань.
Скифское царство в Крыму просуществовало до второй половины III века н.э. и было сметено Готами, пришедшими из азиатских степей.
Приблизительно с конца III — начала IV веков н.э. в текстах древних писателей появляется новое понятие — «Сарматы» (по-русски дубильщики грубой кожи назышались «сыромятники», отсюда — «Сармата»). Именно в это время влияние Греции на Северное Причерноморье ослабевает. На смену Грекам пришёл могущественный Рим. Римляне, открыв для себя новые места, начали вести торговлю со Скифами и потихоньку захватавать их земли. Славяно-Арии, видя гибель своих единокровников — Славяно-Ариев малоазийских и фракийских, предпринимали частые нашествия на порочную и «просвещённую» Римскую империю, карая её за гибель понтийских Славяно-Ариев, мстя за мечарей — гладиаторов, выводимых на заклание для потехи римского народа. Эти мечари был пленниками из разгромленных Славяно-Арийских стран. Поэтому Сарматы, сдерживая натиск Римской империи, часто нападали на её придунайские окраины, и Риму приходилось всячески ублажать скифских царей, чтобы отвести от себя угрозу ответного вторжения. В течение ряда столетий Сарматы оставались ведущей политической и военной силой Северного Причерноморья.
В упомянутом ранее труде Е.И. Классена сообщается, что более 20 человек Славяно-Арийского происхождения были возведены на римский престол. Отряды их соотечественников играли важную роль в Риме и Византии, являя собой лучшие войска. Потому-то царь Иоанн Васильевич и выводил своё родство с римскими императорами. Византиец Агафий свидетельствует, что в 554 году Славянин Доброгост был греческим полководцем в войне против Персов и командовал кораблями, а Славянин Всеград был в том же военном походе предводителем византийских сухопутных войск. Но, с другой стороны, византийские летописцы того времени Прокопий Кесарийский, Менандр Протиктор, Маврикий Стратиг пишут, что в начале VI века черноморские Руссы сами неоднократно нападали на Греков. Целью этих войн была необходимость с помощью оружия вынудить Греков обеспечить Славяно-Арийским купцам законные условия торговли, которые коварные Греки всячески нарушали.
В конце IV века значительная часть сарматского населения покинула Крым и совместно с Гуннами ушла осваивать Запад.
Слова «скифы» и «сарматы» на разных языках являются близкими понятиями. Так, слово «скутос» у адриатических Греков означает «кожу» (cutis), а у понтийских Греков — «сыромять», то есть сыромятную кожу. Нетрудно понять, что Греки, называя Славян «скутос», «скифос», имел ввиду род занятий Славян, которые в совершенстве владели кожевенным делом: именно поэтому древнегреческие герои, пытаясь овладеть тайной выделки «золотого руна», совершали свои знаменитые путешествия.
Многие исследователи, в том числе такие как Геродот и Страбон, называют Сарматов Скифами, относя к последним также Массагетов, Тирагетов, Роксолан; Плиний Скифами называет Хазар; Нестор-летописец сообщает нам о том, что Греки называли Великой Скифией Полян, Древлян, Северян, Радимичей, Вятичей, Хорватов, Дулебов, Оуличей, Тиверцев, то есть вообще Славяно-Ариев; Птолемей (I-II в.) и такие известные авторы, как Константин Багрянородный, Анна Комнена, Лев Диакон, Иоанн Киннам называют Скифами Славяно-Ариев: Алан, Аорсов и Ахтырцев (aga- thyrsi), т.е. Руссов. Наконец, Ф.М. Апендини доказал, что древние Фракийцы, Македонцы, Иллирийцы, Скифы, Геты, Даки, Сарматы и Кельто-Скифы говорили на одном — русском языке.
Одной из характерных черт Славяно-Арийских народов являлось понятие о чести, что отразилось в многочисленных народный песнях, где воины ищут себе чести, а князю — славы. Древнеобычное приветствие Русских «чтите!» означает почёт, честь (вспомним прощальный возглас наших дедов: «Честь имею!»); при этом на великорусском наречии «чтите»» звучит как «цтите», что дало повод Римлянам называть Русских Сцитами, а Грекам — Скифами.
Как видим, название «Славяно-Арии» есть определяющее имя Руссов, то есть Россиян (Расы), их же называли «Скифами».
Царственных Скифов называли «книази». В Славяно-Арийской рунице не было буквы «я», её заменяли двумя буквами — «иа»; отсюда «книазь», «книгиня», то есть изначально во главе Славяно-Арийского народа стоял просвещённый «книжный» человек — свещеннослужитель. Их величал «Славными», воинственных же Славяно-Ариев называли «чтимыми» (Скифами).
Природа-матушка разумна и целесообразна. Одних людей она наделяет хорошей физической силой, чтобы быть воинами и пахарями, других — ловкостью, третьих — особым умением выполять тонкий и кропотливый труд, четвёртых — мудростью, то есть тем великолепным неравенством, без которого невозможно создание никакой культуры. В соответствии с этими естественными особенностями людей Ведическое общественное устройство Славяно-Ариев имеет три варны: ведуны, витязи и веси [10].
Ведуны (волхвы, брахманы, рахманы) являются душой общества, носителями Истины и Глагола закона. Они обитают в свещенных рощах, пустыньках (от слова «пустить» — в духовный мир, а не от слова «пустыня»).
Витязи (воины, бойцы, кшатрии — от слов «кша»» — гроза и «три» — три, или раджи — от древнерусского «рядче» — царь) являются сердцем общества, проводниками силы закона Правды. Ранее они жили в кремлях, детинцах, заставах, передвигались вдоль границ России и уравновешивали две крайние силы общества — свещеннослужителей и мирян.
Веси (селяне, огнещане, то есть податное население; вспомните известное изречение — «города и веси») являются плотью общества, вместилищем закона общественного бытия и обрядного устава.
Кроме этих трёх варн существует ещё варна судр — от слова «суд», то есть осуждённые. Их ещё называют смерды — от слов «смерть», «смердить», то есть имеющие зловонный запах тела из-за неправильного образа жизни. Это те люди, которые не желают выполнять естественные природные законы, изложенные в Ведах. Ранее все смерды были отвержены от общества за преступления, ныне они живу в нём.
Греческие исследователи также делят Скифов, то есть Славяно-Ариев, на варны: свещеннослужителей-пастухов, военных-меченосцев и земледельцев. Но эти три варны (на санскрите — «варна» бувально означает «цвет», то есть имеется ввиду цвет биополя человека, его Жар-тела, зависящий от уовня духовного развития) являются под именами различных народов, а именно: Волохов-Алан, Гетов и Ругов. Рассмотрим варны подробнее.
Варной свещеннослужителей — ведуов, брахманов, (приволжцы до сих пор называют самый верхний мачтовый парус «брам-топ», т.е. царь-парус, высший парус), рахманов, которые в одухотворённом обществе древних Славяно-Ариев занимали руководящее положение и которых называют «Царскими Скифами», были Волохи — волхвы и алане. Упоминание о праведной жизни брахманов или рахманов встречается в летописи Нестора со ссылкой на летопись Георгия Амартола (IX в.) и в сборнике старца Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина (XV в.). О рахманах как образцовых христианах рассказывается и в апокрифическом писании «Хождение Зосимы к рахманам».
Слово «алань» сохранилось до сих пор в Тверской, Новгородской, Смоленской областях и в некоторый других великорусских наречиях и означает «пастбище». Алаунская возвышенность, столь богатая пастбищами, называлась прежде Аланскою — это видно из трудов многих древних летописцев, говорящих, что с Аланских гор вытекают реки: Дон, Днепр, Волга и Двина. При этом слово «поляне» (вспомните — в русских былинах соперниками киевских богатырей [11] обычно выступают «удалые поляницы») произошло не от полей, как предполагают некоторый христианские летописцы и как то повторяют вслед за ними современным историки. Это название не есть собственное имя народа, ибо Нестор говорит: «Поляне ляхове сидят по Висле, а Поляне руссове — по Днестру». Из этого ясно, что слово «поляне» есть нарицательное имя и состоит, подобно словам «по-Руси», из двух слов «по-алани», то есть сидящие по пастбищам — пастухи. Это слово, как нарицательное и слитное с собственным, означающим народ, встречается и у Алано-Уннов (Alonounni, Alauni) и Алано-Руссов (Alanorsi, Alano-Rsi), а также у Руссов-Аланов (Roholani, Rohi-Alani). Исследователям известно, что подле каждого отдельного Славяно-Арийского находились Алане, и напрасно некоторые историки полагали, что это одни и те же «Алане», постоянно передвигающиеся с места на место: Алан, Волохов, Гетов и Ружан наодят в разных местностях Европы, так как каждый Славяно-Арийский народ имел все три варны.
Геродот, прозванный «отцом истории», в 46 главе 4-й книги своей «Истории» свидетельствует, что умнейшие люди, которых он знал, были Скифами. По сказаниям многих писателей, в 670 год до Р.Х. некто Скиф или Гиперборей Аварис творил чудеса в Греции, а Скиф Анахарсис (Анахар), как утверждает Эфор (405-330 до н.э.), был причислен к числу семи мудрецов.
В уже упоминавшемся сочинении славянского поэта Славомысла «Песнь о побиении иудейской хазарии Светославом Хоробре», отдельные части которого опубликовал А.С. Иванченко в романе-исследовании «Путями великого россиянина» [12], есть такие свидетельства:
Лишь мести духа прорицательницы с Непры [13] убоявшись,
эллины сыну дщери Россичей имя Пифагора дали
Признав, что пифией [14] рождён он в Дельфах,
обет свой девственницы не сдержавшей
Затворённая в храме, в светилище оракула, как
простая смертная, вопрошателю иль хранителю сокровищ отдалась
И по законам Греков, что очень вероятно,
казнена была, когда сокрыть уж тайны не смогла —
Малец проворный, с власами светлорусыми,
от безпечной матери из укрытия сбежав,
В притворе храма, как поделочными цацками,
в Дельфы приносимыми дарами драгоценными играл.
Прочих же Славян, науками прославивших Элладу
— молва о том идёт по всему свету —
В Эллинов богоравных возвели и изваяньях каменных их лики воссоздали,
Не смущаясь, что обличьем богоравные — Скифы-варвары.
Род Любомудра из Голуни от Зевса! — достойнейший из правнуков Геракла Гераклит.
Здравомысл из Бусовграда, что ныне киевлянином
считался — Критянов демоса мудрейший Демокрит.
Средь Россичей известный нам Всеслав, Эллинам
Анахарсис — отец хратий, учение которого воспринял жрец Клио Геродот.
Яровит, тоже бусовградец наш преславный,
сначала управителя Афин Перикла друг,
А после толпою афинян приговорённый к смерти
как безбожник — семена материи и всех вещей посмел узреть!
Но теперь он всё же в камне — божественный
Анаксагор, — кто старое помянет, нынче уже
того ждёт прежде Анаксогоров приговор…
Велик тот перечень имён эллинских, Славян
скрывающий, в нём, между прочим, также одно время
Проживающий на Самосе Аристарх и сиракузец Архимед,
Сварожия читавшие скрижали и тел сварожьих познавшие движенье,
Пращуры которых, в ремёслах многих искусные
Этруски, к тому же солевары и песнопевцы,
От Непры берегов под солнце италийское к
Латинам перешли и град у моря воззидали Соленцы…
Лев Диакон в своей «Истории», написанной во второй половине X в., ссылаясь на Флавия Арриана (Арьяна, II в.), пишет: «Пелеев сын Ахилл («а хил» — т.е. не слабый, сильный) был родом Скиф из небольшого города Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса…». По свидетелству многих других древних исследователей оказывается, что большинство выдающихся героев древнегреческих легенд были Славяно-Ариями.
Е.И Классен в своём труде «Новые материалы для древнейшей истории Славян…» пишет, что понтийские Греки называли Руссов Скифами, Троянами и Славянами, и утверждает, что «просвещение древних Руссов и старше и выше греческого… Промышленность Скифов также опережала таковую же у всех прочих народов; ибо известно и приведено нами в первых выпусках наших материалов, что Скифы изобрели сталь, огниво, нелинючие краски, выделку кож сыромятных и юфти; им известно было бальзамирование трупов, что они и исполняли над трупами царей своих; им же принадлежат и первые горные работы и разные другие открытия и изобретения. Звёздочтение Скифов (халдеев) есть, сколько известно, старше, чем у других народов.
Скифские письмена, сохранившиеся в некоторых скандинавских и всех поморских рунах, а также и по левому берегу Енисея, повыше Саянского отрога, свидетельствуют, что они служили образцом для древних греческих письмен, равно как и для кельтских и готских алфавитов.
Скифы верили в безсмертие души и в будущую загробную жизнь, а равно и в наказания загробные. Их определение и идея о Творце Вселенной не сделают стыда и христианам» [15].
Что же касается их языка, то древние писания свидетельствуют, что Скифы говорили на русском языке (Анна Комнин, Лев Диакон, Киннам); Тавроскифы говорили на русском языке (Константин Багрянородный); Сарматы говорили на русском языке (Халкокондил); Сарматы говорили на венедском языке [16] (папа Сильвестер II); Сарматы-Яциги и Паннонцы — говорили на славянском языке (Иероним); Сарматы-Сербы — говорили на славянском языке (Плиний); Сарматы-Венеды — говорили на славянском языке (Прокопий и Птолемей); вообще все Сарматы говорили на славянском языке (Апевдини). В грузинских летописях упоминается, что Алане также говорили на русском языке. Очевидно и неоспоримо одно: все Скифы, Сарматы и Алане говорили если и на разных наречиях, то всё-таки на Славяно-Арийских.
Учёный XVIII века Иоанн Раич писал: «Мавробин — рагузинский аббат в славянской истории, на разных авторов ссылаясь, доказует, что Иафетово племя, Славяне, в несравненно великие и многие народы произошли. Имели 200 отечеств и поселилися на оных местах, которые суть от горы Тавра Киликийского к северу при Океане Северном в половине Азии и по всей Европе, даже до океана Британского. Язык их един, от славы именуется, потом назван скифским».
Выедающийся грек Фукидид (460-400 гг. до н.э.) утверждал, что Скифы есть многолюднейший народ в мире, а византийский летописец VI в. н.э. Прокопий Кесарийский в своём известном труде «Война с готами» писал, что Анты и Славяне были когда-то одним народом и что в древности Славян называли Спорами, Рассенами, то есть рассеянными, распространёнными. «Эти народы — Славяне и Анты, — свидетельствует Прокопий, — не управляются одним человеком, а живут в народовластии (т.е. в истинном самодержавии [17]). Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. И в остальном у этих народов вся жизнь и все законы одинаковы… Дома у них не каменные, а из дерева и глины, с островерхими соломенными крышами, напоминающими шалаши. Щиты у воинов из бычьей кожи, лёгкие, и всё оружие лёгкое — копья из крепкого дерева, которому они распариванием и гнутьём умеют придавать прямизну, луки обычные, а колчаны для стрел плетут из ремешков, которые не намокают, мечи длиною в локоть и короткие ножи, а также ножны для них делают искусно… Железо звонкое и такое, что наш меч может рубить, но само не зазубривается… Против нападающих врагов в длинных закрытых колчанах они хранят стрелы, отравленные таким сильным ядом, что если стрела поранит и ухо, с жизнью не успешь проститься… Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы им запрещают так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а трудятся все без различения должности и положения… Пленные, если захотят остаться у них и женятся [18], пользуются равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем необходимым на дорогу… Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны…» [19].
ВЕДУНЫ-молитвенники жили в лесных пустыньках. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мёртвых. Многие из них были ясновидящими. Вера их была безкорыстной, и если они что-то делали, то по велению долга, а не за мзду. Одни из них был свещеннослужителями, приносил жертвы, совершали требы, а другие предавались созерцанию и молитве. Эти были недоступны людям, многие из них молчали. Они носили длинные белые подпоясанные рубахи, имели длинные волосы и бороды. В руках у них всегда был вишневый или самшитовый посох, и у некоторых, особенно могущественных, он заканчивался серебряной или золотой булавой. Такой посох (от слова «сушить», т.е. умертвить — отсюда, например, старинное название онкологического заболевания рака — «сухотка») был грозным оружием ведунов против всякой нечисти. Он представлял из себя довольно сложное устройство — палицу (от слова «пал» — палить, предавать огню), предназначенную для накопления психической (ментальной) силы с помощью кристаллов минералов, определённо расположенных на шаре булавы, с последующим выбросом энергии тонким лучом через серебряную или золотую нить, идущую от внуренней области булавы наружу через рукоять. В русских былинах сохранились свидетельства применения воинами-ведунами такого оружия: стоило махнуть палицей, и в рядах вражеской армии появллась «улица»», а отмахнуться — «переулочек». Такое сокрушительное действие палицы было совсем не преувеличением, и недаром, попавшаяся в руки несведущему человеку, она называлась «жезло» («же зло»» — это зло). Поэтому посох особенно охранялся ведунами и был их единственной принадлежностью, ибо, кроме него и серебряного изваяния Рода, у них ничего не было.
В жилище у каждого ведуна-кудесника висели пучки трав от разных болезней и сухие цветы к Колядину дню, в которые они клал изображение Малого Крышнего [20]. Общались ведуны и с хозяином леса — Лесобогом (дедушкой Берендеем).
Топили бани, где в мовницах молились. После мовления, жарко напарившись, выходили голыми, зимой катались по снегу и снова вскакивали в баню, продолжая париться. После этого пили травяные отвары, укреплявшие тело. Ели весьма мало житного хлеба, пили жертвенное молоко или вкушали мёд. Мяса и рыбы не ели. Ели они ещё сочиво или коливо — отварную пшеницу, жито, ячмень с мёдом, а масла не вкушали. Жизнь их была суровой и ничего не давала, кроме победы над своими страстями. А если к ним приходили огнищане (веси), то по их просьбе совершали требы. Иногда ведуны собирались вместе и пели общую Требу.
Хотя они искали ухода от мирской суеты, но жизни не сторонились. Так, если к ним приходила женщина, желавшая иметь от них ребёнка, то почиталось оскорблением богов ей в этом отказать. Однако сами ведуны жён не имели и их не искали. Они отгараживались от мирской жизни не потому что презирали её блага, а потому, что хотели быть ближе к Всевышнему. Это было воспитание Воли, и пост у ни был не для умервщления плоти, а для здоровья.
Ища в своей жизни лишь Всевышнее, они перед сном и утренней зарёй (за два часа до восхода солнца) молвили славу Всевышнему и богам. Годами мог молчать ведун, прежде чем обретал Сварожье Слово. Только тогда он начинал вещать, и люди шли к нему за советом, чтобы поступить по-божьему. И, как утверждает Дитмор, «соображаясь с Величим Небес, они считают не приличным стеснять богов стенами». Главным же смыслом своего служения для них является славление Всевышнего и предоставление себя в его руки. Основные общественные обязанности ведунов: бить баклуши, толочь воду в ступе и писать на воде вилами. Но враги Славяно-Арийской культуры постарались выставить эти свещеннодействия в глазах простолюдинов пустым, безполезным делом. На самом же деле ведуны, заботясь о благосостоянии населения, снабжали людей деревянными заготовками-баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек инструментов, оружия и др. Но, что самое важное, они били, рубили кололи баклуши для каждого отдельно в определённый благоприятный день и из той породы дерева, которая соответствовала этому человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали из семи свещенных, обладающих целебными свойствами родников воду и, смешивая её, тщательно толкли эту воду в ступе. При этом вода становилась биоактивной, деструктурированной, так как её молекулярные цепочки становились более короткими и легко проникали через оболочку клеток организма человека, обеспечивая ему здоровую жизнедеятельность. Для того, чтобы эта вода благотворно влияла не только на плотное физическое тело человека, но и на его тонкие тела, ведуны её пранировали, то есть заряжали духовной силой — праной с помощью свещенного трезуба, знака тройственности Всевышнего (руна «Ман», называемая в народе «сорочьей лапой»), водя этими «вилами» по воде и молвя славу Прародителю, богам и предкам. Таким способом ведуны сотворяли светую воду и снабжали ею каждую семью.
Варну ВОИНОВ-руководителей составляли Геты. Греки описывают их как наиболее воинственных из всех других народов и называют, в дополнение: Gethae metanastae. Это определение «metanastae», будучи правильно прочитанное как «меченосцы» (ибо в греческом алфавите нет букв, соответствующих славянским «ч» и «ц»), служит одним из веских подтверждений принадлежности Гетов к варне воинов-витязей.
Из-за различного месторасположения Гетов, Греки упоминают их под разными именами, например: Массагетов, признанных Греками за заволжских Скифов; Тирагетов — живших на Тиросе или Днестре; Пиенгитов или Гетов-Пенян — на реке Пене в Дакии; Танагитов или Танаитов — Гетов на Танаисе или Дону; Рсигетов (Arsietae) — на реке Рси или Роси; Гетов-Руссов (Гет-Русков — Этрусков) — в Италии. Отсюда идут корни Гетов донских — донских казаков, о которых говорят Ливий и Стефан Византийский как о Славянах, сохраивших при переселении из Италии в Грецию свой родовой язык. Другие же Геты, жившие на севере Европы, названы историками Gethini, Gothini, Gothunni. В этих легко унать Гетов-Уннов, которые жили там, где и поныне есть признак их пребывания: две реки Унны, озеро Унно, Унский залив, Уннская губа (все уазанные наменования находятся в нынешней Архангельской области). О жительстве Уннов свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о войнах Скандинавов с Уннами и Руссами, постоянно выстуающими на севере в качестве союзников.
Гетов можно встретить и в Малой Азии, располагавшихся пятью княжествами вокруг Славяно-Арийских народов, где они назывались Гефами или Гефью.
В писцовых книгах Новгородских погостов упоминаются конные гофейские казаки, неизвестно откуда переселившиеся в Бежецкую пятину, на опустелые земли. «Конные казаки» непременно означают войсковых людей, а под «гофейскими» подраумеваются Готы или Геты-Унны (Gothunni), жившие в Архангельской области, следы пребывания которых остались там в названии бездомных батраков — «казаки». Это обстоятельство также свидетельствует о том, что казаки-Унны, или северные Готфы (а по Нестору — Гофь или Гьте), состояли в родстве с Руссами и были их варной воинов-витязей.
Геты составляли пограничное или сторожевое Славяно-Арийское население, вроде нашего казачества или военной сторожевой линии. «Казак» в переводе с монгольского языка, означает: «порубежник», «защитник границы»; ибо «ко» — броня, лага, защита; «зах» — межа, граница, рубеж. Нынешнее казачество есть остаток Гетов, по сей день сохранивших должностное звание для своего начальника — «гетман», то есть видящий (знающий) человек, ибо сторожевой казачий оклик «геть» или «гей-ты» (отсюда и название греческого гвардейского войска «гейтары») означает «смотри-ты». Так, в малороссийской песне казак, поджёгший дворы Ляхов, говорит:
Солнышко уже, геть, припекае,
Геть! покатыть дым и поломья!
Здесь в обоих случаях слово «геть» означает «гляди», в свою очередь, сторожевой оклик «гей-ты», означает «гляди в три ока»; отсюда и слово «смо-три». На Руси до сих пор существует поговорка: «Смотри в оба, зри в три» [21].
Название российского войска «казаки» неразрывно связано с древними Скифами-Саками или Сахами, которых греческие летописцы называли Кос-сахи или Белые Сахи («кос» — по-скифски значило «белый»). В Танаидских (донских) летописях античных времён имя Коссаков встречается под видом разлчных народов: Га-сагос, Касагос, Касакос. Судя по данным археологии, это название принесли из Закавказья Скифы, прошлое которых отчётливо связано с казачеством. В области Иловлы и Медведицы арабские летописцы помещают Сакалибов, Азсахов, Казаков, а персидские летописцы — Бродников. Первые — неоспоримо предки донских казаков, а вторые — общепризнанные предки запорожских казаков.
«Следовательно, название народа «казаки», от ас и саки, есть собственное, о чём свидетельствуют историки в течение многих веков», — заявляет Е.П. Савельев. «Казачество выступило на историческом поприще под своим именем гораздо раньше Батыева нашествия и даже было известно в глубокой древности: народ Казос, по Дарету и Диту (XIII в. до Р.Х.); Азы и Саи, или Азсаки, с гортанным придыханием — Казсаки или Казаки, по Страбону (I в. до Р.Х.); Кушаки (Георгий Монах); Казахи по Константину Багрянородному (Х в.) и по Нестору — Ясы и Косоги» [22].
Исследователь первых веков называют казаков, защищающих Российские рубежи, Бродниками ибо они передвигались, бродили вдоль охраняемой границы. Венгерский король Бела IV в письме к папе Римскому Иннокентию IV в 1254 году писал о Бродниках: «Страны, которые граничат с нашим королевством — Русия, Кумания, Бродния, Булгария», а византиец Никита Акоминат в своем Слове в 1190 году утверждал: «И те Бродники, презирающие смерть, ветвь Русских» [23].
Археолог М.А. Миллер пишет: «Большшнство исследователей считает наиболее вероятным, что местом пребывания Бродников являлись Донские степи» [24].
Писатель-исследователь Ю.П. Миролюбов считает, «что «Бродники» были теми людьми, из которых после выработалось казачество, и что название это было эндемическим у Русов» [25].
Академик Б.А. Рыбаков утверждает: «Между коренной слаянской землёй и южными разноплеменными городами связь поддерживалась славянскими «бродниками», которые были известны уже Тациту… Бродники — это не только степные вольницы, окончательно порвавшие с метрополией; дружинники многих племён, вероятно, на время превращались в бродников, «рыскали по полю, ищуща себе чести», а затем возвращались к себе на родину. Так бывало в VI в. во время византийских походов антов (как об этом говорит Прокопий), так, очевидно, было и во времена более ранних периодов…» [26].
В соответствии с названием российского войска — «казаки», земля, лежащая между Волгою и Днепром, Кавказскими горами и верховьями Дона и занятая казаками у разных народов в разные времена, называлась: Черкасия, Чигия, Алания, Казакия. Посему Азовское море на картах Арабы называли Казацким, а турки горд Азов — Азак — Казацким городом.
Крепью Славяно-Арийского войска были характерники [27], которых в Индии до сих пор именуют махаратхами — великими воинами (на санскрите «маха» — большой, великий; «ратха» — рать, войско). Это были люди, владеющие Казачьим Спасом. Основой этого боевого искусства является способность человека к переносу своего сознания на более тонкие уровни бытия — сначала в Навье (астральное) тело, затем в Клубье (ментальное), Колобье (будхическое) и, наконец, в Дивье (деваконическое). Всего же у нашего «Я» (Живы) семь тел: есть ещё Светье (саттвическое), Жарье (эфирное) и Плотское (органическое). Наши предки ведали обо всех своих тонких телах — вспомним, к примеру, о семи русских матрёшках. До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что характерники во время схватки общаются с Родом. В таком состоянии сознания боец обретает способность уравлять пространством и временем, влиять с помощью внушения на сознание других людей, для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как он сам имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Человек, владеющий Казачьим Спасом, обладает способностью чувствовать приближение «своей» пули: затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть, и воин либо уклоняется от пули, либо останавлвает её на поверхности своего Плотского тела. Эта невидимая непосвещённому «броня» называется Золотым Щитом. Российские знахари до сих пор именуют центр хара «золотником».
Сохранился Казачий Спас и до наших дней. Наш современник, донской казак Юрий Сергеев уверждает, что за людьми, владеющими этим боевым искусством, сейчас устроена настоящая охота всеми разведками мира. Как оказалось, освоить Учение и владеть его приемами могут только Славяно-Арии! Давние предки наши в Слове заложили наследственный Оберег. По некоторым сведениям, характерниками были Чапаев, который на насыпи окопа плясал «барыню» под немецкими пулемётными струями, Думенко, Миронов, казацкий полковник Васищев. Старик-очевидец рассказывал о том, как в 1920 году Васищев с 54-мя казаками взял станицу Наурскую, отбив у красного корпуса пулемёты и всё оружие. Пленных он не тронул. После боя вся черкеска у него была в дырках от пуль. На людном станичном плацу он соскочил с коня, расстегнул пояс и встряхнул одежду — пули посыпаись к его ногам.
Офицер, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминая о боях, расскаал о простом солдате с Днепра — Трофимчуке, служившем в его полку пулемётчиком:
«Воевал он с первых дней войны и ни разу не был ранен или контужен… Очень часто бывало так, что он оставался невредимым даже тогда, когда пули, снаряды, мины или бомбы скашивали всех вокруг… Раз он с третьим отделением был в ночном поиске. Ходили за реку, переправлялись вместе. Он обеспечивал бросок отделения в траншею немцев за языком. Язык был взят, и отделение отходило назад. Немцы накрыли его минами. Девять человек были убиты, а один солдат и пленный немец ранены. Трофимчук под огнем перетащил пулемёт, потом еще два раза ходил за реку, доставив обоих раненых.
В другой раз бомба упала в двух шагах от пулемёта. Весь расчёт был убит, а Трофимчука с пулемётом отбросило метров на десять. Но и только. Ни одной царапины не было на теле пулемётчика.
Во время боев под Орлом он прикрывал отход роты на новый рубеж. Семьдесят немцев подошли к пулемёту на расстояние 10-15 метров. Семьдесят автоматов били по нему, десятки гранат рвались около окопа. Расчёт пал, а Трофимчук сберёг пулемёт и ни одному фашисту не дал пройти мимо себя…» Подобные случаи происходили с ним постоянно и, естественно, возбуждали к нему интерес и у старых солдат, и у офицеров, и у молодежи полка. Но сам он не любил говорить о его неуязвимости, лишь однажды всё же приоткрыл её источник. Как-то после боя, сидя вместе с соратниками в блиндаже, он сказал: «Мой батька в прошлую войну тоже с немцами воевал. Приехал с неё полным георгиевским кавалером. Я его как-то спросил: как же тебя, батько, ни одна пуля не тронула? Он мне ответил: у меня, говорит, душа (т.е. Дивье тело — прим. авт.) перед немцем ни разу не дрогнула. Если душа дрогнет — конец, пуля сразу найдёт тебя». Потому-то русская пословица и гласит: «Смелого пуля боится, а труса и в кустах найдёт».
В старину пятёрки русских воинов прорубалсь через плотную стену войск Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились — в степь. Всадники скакали в бой обнажёнными до пояса: они ловили на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялсь от них. Сражались они двумя мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил Персы «сходили с ума» и ничего не могли понять.
Недаром император Наполеон I говорил, что «казаки — это самые лучшие лёгкие войска среди всех существующих. Если бы я имел их в своей армии, я прошёл бы с ними весь мир».
В глубокой древности идеи учения о Казачьем Спасе были заимствованы японскими витязями-самураями и отразились не только в их обряде харакири, но и в основных правилах особой боевой подготовки в рамках обрядов кэндо (кэндзюцу) философской системы «Цакугадзэн». Кюдо (путь лука) — искусство стрельбы из лука — было очень распространено среди японского дворянства, ибо лук и стрелы считались у самураев свещенным оружием, а выражение «юмия-но мити» (путь лука и стрел) было равно понятию (бусидо) «путь самурая». Кюдо, по высказываниям его толкователей, даётся бойцу только после длительной учёбы и подготовки, в то время как человеку, не понявшему его сути, оно вообще недоступно. Многое в кюдо выводит за рамки человеческого разума и недоступно пониманию. Ибо стрелку в этом духовном искусстве принадлежит второстепенная роль посредника и исполнителя «идей», при которых выстрел осуществляется в некоторой степени без его участия. Действия стрелка в «цакуга-дзэн-кюдо» имеют двуединый характер: он стреляет и попадает в цель как бы сам, но, с другй стороны, это обусловлено не его волей и желанием, а влиянием сверхъестественных сил — его Дивьего тела, Родоводителя народа, или же демона государственности. Стреляет «оно», то есть «дух» ил «сам Будда». Воин не должен думать в ходе стрельбы ни о цели, ни о попадании в неё — только «оно» хочет стрелять, «оно» стреляет и попадает. Так учил наставники кюдо. В луке и стрелах стреляющий мог видеть лишь «путь и средства» для того, чтобы стать причастным к «великому учению» стрельбы из лука. В соответствии с этим кюдо рассматривалось не как техническое, а как совершенно духовное действо.
В этом понятии заложено глубокое духовное содержание стрельбы, являющейся одновременно искусством мировоззрения дзэн-буддизма. Цель стрельбы из лука — «соединение с божеством», при котором человек становится действенным Буддой. Во время выстрела воин должен быть совершенно спокоен; это состояние достигается медитацией. «Всё происходит после достижения полного спокойствия», — говорил мастера кюдо. В дзэновском смысле это значило, что стреляющий погружал себя в безпредметный, несуществующий для человеческих чувств мир, стремясь к состоянию просветления (сатори), то есть к переносу своего сознания на духовный уровень. Просветление, по японским понятиям, означало в кюдо одновременно «бытие в небытии, или положительное небытие», то есть бытие в своём духовном (Дивьем) теле. Только в состоянии «вне себя» (вне человеческого тела), при котором воин должен отказаться от всех мыслей и желаний, он связывался «с небытием», из которого возвращался снова «в бытие» лишь после того, как стрела отлетала к цели. Таким образом, единственным средством, ведущим к просветлению, служил в данном случае лук и стрела, что делало безполезным, по толкованию учителей кюдо, всякие усиля человека в самосовершенствовании без этих двух составляющих частей.
В начальной стадии сосредоточения стрелок направлял внимание на дыхание, имеющее в кюдо большее значение, чем в других видах военного искусства. Для того, чтобы уравновесить дыхание, воин, сидя со скрещенными ногами, принимал положение, при котором верхняя часть туловища держалась прямо и расслабленно, как во время медитации дзэн. Затем это положение принималось безсознательно.
Стрельба могла производиться из положения стоя, с колена и верхом на коне. В мгновение, предшествующее непосредственному пуску стрелы, физические и духовные силы самурая были сосредоточены на «великой цели», то есть на стремлении соединиться со своим Дивьем телом, но ни в коем случае не на мишени и желании попасть в цель.
Такое состояние сознания изменяло поток времени человека, и характерник обретал способность не только видеть замедленный полёт стрелы, пули, снаряда и даже луча света, но и управлять их движением посредством энергетического жгута, который выходил из хары и соединял Плотское тело человека, летящий снаряд и цель. Благодаря этому характерник успевал выпустить семь стрел до того мгновения, когда первая стрела достигала цели.
Японский адмирал Хэйхатиро Того (1847-1934) был увлечён идеей применить эту науку в морских сражениях. По его почину на японских кораблях, начиная с 1898 года, стали проводиться сверхсекретные опыты под условным наименованием «цакуга-дзен». По программе Сабу-Кюдо — Путь огненного лука — были особо отобраны и подготовлены комендоры — наводчики 1-го и 2-го боевых отрядов Объединенного флота, и частично, других боевых отрядов.
На учебных стрельбах летом 1901 года были получены ошеломляющие результаты, и Того решил применить «цакуга-дзэн» в Цусимском сражении. Об этом есть записи очевидцев.
«В 13.59 на мачте «Микаса» подняли условный знак «цакуга-дзен». В течение минуты его приняли командиры следующих за «Микаса» кораблей: капитаны 1-го ранга Терагаки («Шикишима»), Мацумото («Фудзи»), Номото («Асахи»), Като («Кассуга»), Такеноучи («Ниссин»), передавая сигнал дальше по линии на совершающие поворот броненосные крейсера адмирала Камимура, громящие «Ослябю». Что-то страшное, жуткое и непонятное произошло на японских броненосцах, о чём никто впоследствии толком рассказать не мог Души и помыслы всех людей слились в единую силу, энергия которой поступала из источника, чье название вообще невозможно точно перевести на бедные философскими терминами европейские языки — энергия эта шла из того невидимого мира, который с момента появления человека на земле окружает его своей таинственной силой, порождая религии и мифы, столь разные и столь удивительно общие для всего человечества. И эта сила превратила броненосцы и людей в единое, сверхъестественное существо, подобное легендарным драконам, покидающим в течение веков в трудный для народа Ямато час свои небесные дворцы и появляющимся на земле, чтобы своим страшным огнем испепелить полчища врагов…
Лейтенант американского флота Роберт Уайт, находящийся в качестве наблюдателя на борту «Шикишима» — второго броненосца японской линии, почувствовал, что сходит с ума. Всё, что он увидел, было настолько нереально, что американскому офицеру показалось каким-то кошмарным сновидением. Он никогда бы не поверил, что армстронговские башни главного калибра могут развить такую скорострельность. Залпы следовали непрерывно один за другим, как будто это были не 12-дюймовые орудия с раздельным заряжанием и продольной перезарядкой, а митральезы (станковые пулеметы — прим.авт.). Артиллерийский офицер, участник боя при Сант-Яго, Уайт не мог себе представить, как подаются снаряды и полузаряды из погребов, как продувается канал ствола после выстрела и как вообще, да и когда, японцы успели модернизировать свои башни, что они перезаряжаются в положении «на борт»? Уайт с ужасом подумал, что вот сейчас башни японских броненосцев начнут взрываться одна за другой, и весь флот Того либо вознесётся куда-то в небеса, либо низвергнется в страшную пучину. Американцу стало трудно дышать, ему показалось, что какая-то сила приподнимает его в воздух, чтобы швырнуть за борт прямо в огромные гейзеры русских недолётов. Уайт судорожно вцепился в поручни и взглянул в сторону русских. Четыре первых корабля русской эскадры были охвачены пламенем гигантских пожаров, которые на глазах разгорались всё сильнее, превращаясь в огненный смерч…
На палубе «Суворова», в башнях, в плутонгах, на постах управления царило смятение, близкое к полной деморализации. Даже капитан 2-го ранга Семёнов, обстрелянный офицер, участник боя 28 июля, был ошеломлён не меньше, а, видимо, даже больше других. Ему было с чем сравнивать. «28 июля, за несколько часов боя «Цесаревич» получил только 19 крупных снарядов, и я серьёзно собирался в предстоящем бою записывать моменты и места отдельных попаданий, а также производимые ими рарушения. Но где уж тут было заисывать подробности, когда и сосчитать попадания оказывалось невозможным! Такой стрельбы я не только никогда не видел, но и не представлял себе. Снаряды сыпались безпрерывно, один за другим… За 6 месяцев на артурской эскадре я всё же кой к чему пригляделся — и шимоза, и мелинит были, до известной степени, старыми знакомыми, но здесь было что-то совсем другое, совершенно новое! Казалось, не снаряды ударялись о борт и падали на палубу, а целые мины… Они рвались от первого прикосновения к чему-либо, от малейшей задержки в их полёте. Поручень, бакштаг трубы, топрик шлюпбалки — этого достаточно для всеразрушающего взрыва…
Стальные листы бортов и надстроек на верхней палубе рвались в клочья и своими обрывками выбивали людей. Железные трапы свертывались в кольца, неповреждённые пушки срывались со станков…
А потом — необычно высокая температура взрыва и это жидкое пламя, которое, казалось, всё залевает! Я видел своими глазами, как от взрыва снаряда вспыхивал стальной борт. Конечно, не сталь горела, но краска на ней! Такие трудногорючие материалы, как койки и чемоданы, сложенные в несколько рядов, траверсами, и политые водой, вспыхивали мгновенно ярким костром…» [28].
Русские моряки, лишённые связи с мощнейшим эгрегором (информационным полем) дохристианской России и опеки своих родных богов, оказались безсильны против влияния демона государственности Японии и посему в бою с ним были обречены на поражение.
Во все времена Славяно-Арии, обладая Ведическим мировоззрением, страшились не смерти, а безславного конца — трусости и предательства. Став воином, Русский человек знал, что, ежели он будет убит в бою с врагами Рода, то пойдёт в Ирий — Славяно-Арийское Небесное Царство, на радость пращурам своим, а если он сдастся в плен, то уйдёт в мир иной рабом, сохраняя в Нави это низкое положение. Ю.П. Миролюбов писал, что поэтому Славяно-Арии предпочитали славно умереть, чем гнусно жить, ибо умершего от меча на поле брани Валькирия [29] на Белом Коне (т.е. в Дивьем теле) ведёт в Ирий, к Перуну, а Перун его покажет Прадеду Сварогу!
Наши пращуры знали, что смерть есть лишь одна из ступеней жизни, являясь способом преобразования в новые виды — подобно тому, как неуклюжая гусеница превращается в прекрасную, нежную бабочку. Нынешнее заблуждение материалистов в отношении смерти устраняется при духовном опыте, ибо познание законов жизни иных миров даёт опыт посмертного существования.
Славяно-Арии ведали, что человек, ослеплённый ложным эго, обобщивший себя со своим телом, погружается в тревогу, безпокойство и мирские заботы о завтрашнем дне. Он испытывает страх и вражду к людям и животным, боится потерять близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои желания, вечно зависит от мнения других, от случая, успеха или неудачи. В таких натурах царят гордость и эгоизм, для них природа — мачеха, ближний — враг, звери — недруги, стихии — супостаты.
Для тех же, кто умирился с Прародителем и с самим собою, природа становится нежной матерью. Дикие звери не трогают их, стихии повинуются, а духи служат им.
В древности всякий мужчина нёс воинскую повинность. На войну шли все, от мала до велика. Ю.П. Миролюбов в своём исследовании «Материалы к праистории Руссов» приводит по этому поводу такую пословицу: «Спокон вику так, що чоловик, той козак», что в переводе означает: «Издревле — как человек, то и воин (козак)».
Существует множество пословиц и поговорок, свидетельствующих о том, что Русские люди придавали большое значение таким понятиям как честь и долг, которые даже дети воспринимали как непреложный закон и по которому потом жили, становясь взрослыми:
- Лучше быть убиту, чем в плен взяту!
- Без боя врагу земли не дают!
- Если же враг осилил, бросай всё, иди в глушь, заводи на новом месте старую жизнь!
- Врага слушать — самому себе могилу копать!
- За Россию да за друга стерпи жар и вьюгу!
- Нет больше той любви, чем положить душу за други своя!
- Сам погибай — соратника выручай!
- Казак казаку — брат, а на войне — во сто крат!
- Характер — что казачья лава в атаке.
- Ломи напрямик, скачи, пока ноги коня несут!
- Хоть рыло в грязи, да наша взяла!
- Хоть жизнь собачья, так слава казачья!
- Знай край, да не падай!
- От чужого стола не зазорно и повернуь.
- Казачьему роду нет переводу!
- Слава Роду, что мы — казаки!
Третьей варной у Славяно-Ариев были земледельцы — торговцы (ВЕСИ), которых прозывали Ругами. Руги не есть имя собственное: например, на острове Рюген Руги назывались и Руссами — Russi, Russe, Rutheni, Ruthae; это были Руссы ружные, то есть земледельческие. В русском языке до сих пор сохранилось слово «руга», означающее отпуск зернового хлеба кому-либо на содержание. Кроме того, в некоторых летописях встречаются Ружане придунайских Сербов под названием: Rugi, Rugiani и Rugioni; последние — это Руги-Унны, т.е. Ружные Унны. Плиний, Тацит и другие исследователи древности свидетельствуют, что Славяно-Арии занимались хлебопашеством и вели оседлую жизнь в то время, когда германцы ещё кочевали. Где бы ни селились Славяно-Арии, они везде обращались к земле и возделывали её так, как это было принято на их родине.
Во II тысячелетии до н.э. Славяно-Арийские народы расселились на обширнейших землях — от Балкан (Эллино-Дорийцы) северного Причерноморья (Киммерийцы) и южного Причерноморья (Хетта) до Нижнего Поволжья; от Семиречья (Скифы) и далее — вплоть до Енисея, Северного Китая и Индии (Массагеты, Саки, Арьи). О том, что Скифы владели Китаем, писали христианские отцы церкви Западной Европы, Малой Азии и Индии. Пребывание Скифов в Месопотамии, Палестине и Китае оставило следы удивительной культуры наших предков. Самим же Китайцам был известен народ Юэчжи, являющийся частью народа Сэ: то есть «Саков». Саки жили тогда в Среднй Азии и за Тянь-Шанем, в степях Северо-Западного Китая, в Джунгарии и западной Монголи.
В клинописных табличках из Аль-Амраны и Боказгея, а также в документах из Митаннии (Передняя Азия), относящихся к середин II тысячелетия до н.э., появляются слова славяно-арийского происхождения, что подтверждает приход Славяно-Ариев в Малую Азию и в Митаннию в это время.
Археологи считают, что различные Славяно-Арийские народы в бронзовом веке имели небольшие этнические различия. Области их обитания можно определить по видам захоронений: Киммерийцы — «катакомбная» культура, Скифы — «срубная» культура, а Саки — «андроновская».
Согласно данным археологии, сходство памятников, найденных в землях Средней и Центральной Азии, на Алтае и Саянах, в Северном Китае не случайное. Оно обусловлено родством народов населявших эти земли [30].
Современным учёным известно, что Славяно-Арии, будучи очень большой людской общностью, расселились от Европы до Индии примерно в V-IV тысячелетиях до новой эры, принеся в места нового обитания навыки земледелия и скотоводства. Историки, скрывая истинное происхождение этого великого народа, назвали их индоевропейцами, определяя этим названием лишь границы расселения: Индия — Европа. Когда-то все они говорили на одном языые, но, рассредоточившись на таком большом пространстве, сохранили свою языковую общность только в корнях слов. Языков же стало столько, сколько появилось обособившихся родов. Сейчас языковеды насчиывают более сотни индоевропейских языков.
В книге Мавро Орбини, или — как написано в самой книге — Мавроурбина «Книга историография початия имене, славы и разширения народа Славянского и их Царей и Владетелей под многими имянами и со многими Царствиями, Королевствами и Провинциями. Собрана из многих книг исторических, чрез Господина Мавроурбина Архимандрита Рагужского», изданной в 1601 году (Переведена с итальянского на русский язык и напечатана по велению и во времена счастливого владения Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского и протчая и протчая. В Санкт-Питербургской Типографии, 1722 году Августа в 20 день) [31] говорится, что славянский «…народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил Персиду; владел Азиею, и Африкою, бился с Египтянами и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладел Моравиею, Шленскою землёю, Чешскою, Польскую, и берегами моря Балтийского, прошёл во Италию, где много время воевал против Римлян.
Иногда побеждён бывал, иногда биючися в сражении, великим смертопобитием Римлянам отмщевал; иногда же биючися в сражении, равен был.
Наконец, покорив под себя державство Римское, завладел многими их провинциями, разорил Рим, учиня данникам Цесарей Римских, чего во всём свете иной народ не чинивал.
Владел Франциею, Англиею, и установил державство во Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе…
…И от сего всегда славного народа в прошедших временах, произошли сильнейшие народы; то есть Славяне, Вандалы, Бургонтионы (т.е. Бургундцы в современной Франции — прим. авт.), Готы, Остроготы, Руси или Раси, Визиготы, Гепиды, Гетналаны, Уверлы, или Грулы, Авары, Скирры, Гирры, Меландены, Баштарны, Пеуки, Даки, Шведы, Норманны, Тенны или Финны, Укры, или Ункраны, Маркоманны, Квады, Фраки, Аллери были близ Венедов, или Генетов, которые заселили берег моря Балтийского, и разделились на многие началы; то есть Помераняны. Увилцы, Ругяны, Уварнавы, Оботриты, Полабы, Увагиры, Лингоны, Толенцы, Редаты, или Реадуты, Цирципанны, Кизины, Друлы, или Длуелды, Левбузы, Увилины, Стореданы и Брицаны, со многими иными которые все были самый народ славянский».
Жителей великой Русской равнины в первые века от Р.Х. древнеримские и греческие летописцы называли: северо-западные племена — Склавинами (Славянами), а юго-восточные — Антами. При этом Прокопий Кесарийский сообщает, что Склавины и Анты говорят на одном и том же языке. Это же подтверждает Иордан (VI в.), отмечая, что они — «великий народ», состоящий из «безчисленных племён».
Летописец IX века Араб Ибн Якуб говорит, что «некогда существовало единое Славянское госуарство, которое затем распалось». В другом месте он сообщает, что царём этого единого Славянского государства был Мах.
«Они… состоят из… многочисленных, разнообразных племён. И собрал их в былое время некоторый царь, титул которого — Маха (великий), и был он родом одного из племён, которое называось «Вийнбаба» (Венды — Вененды)… потом же разделилась их речь и прекратился их порядок, и народы их стали (отдельными), и воцарился в каждом их народе царь» [32].
Подобные сведения можно найти и у Прокопия Кесарийского. Это позволяет уверждать, что разделение Славян-Руссов произошло до VI в. н.э., так как книга Прокопия «Война с Готами»» относится к VI веку. Тем не менее, мы видим, что в современной истории о едином Славяно-Арийском государстве в докиевские времена нет даже упоминания имени царя Маха. Ещё бы! Ведь это противоречило бы правительственной «норманской теории» Шлецера и Миллера, которые считали достойным лишь всяческое восхваление Немцев. Ибо признав то, что Руссы уже в доисторическое время — когда о Немцах ещё не было и речи — объединяли все славянские народы, входившие в единое госуарство, пришлось бы признать, что и сегодня за ними сохранилось это право. Поэтому-то до сих пор живо официальное утверждение, что в те времена Славяне обитали в лесах, как звери и птицы.
Вопреки этим утверждениям, множество учёных России, о которых недруги всячески стараются умалчивать, такие как М.В. Ломоносов, А.Д. Чертков, Е.И. Классен, А.Ф. Вельтман, М.А. Максимович, Ю.И. Венелин, Ю.П. Миролюбов, Ф.Л. Морошкин, С.П. Микуцкий, О.М. Бодянский, В.Е. Вилинбахов, А.П. Жуковская, Е.П. Савельев, Н.И. Надеждин, И.П. Боричевский, П.А. Лукашевич и многие другие, опираясь на письменные свидетельства и данные археологических находок, провели серьёзное исследование происхождения Славяно-Арийских народов. Они доказали, что народы, которые греческие, римские и западные учёные окрестили Скифами, Сарматами, Венетами, Этрусками, Пеласгами, Лелегами, Антами, Гетами, Вендами, Ругами, Рутенами, Русинами, Склавинами, Ставанами, Роксоланами и многими иными прозвищами — все без исключения были Славяно-Ариями.
М.В. Ломоносов в «Древней Российской истории от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Мудрого или до 1054 года» пишет: «Множество различных земель славенского племени есть не ложное доказательство величества и древности. Одна Россия, главнейшее оного поколения, довольна к сравнению с каждым иным Европейским народом. Но представив с нею Польшу, Богемию, Вендов, Моравию, сверх сих Болгарию, Сербию, Далмацию, Македонию и другие около Дуная Славянами обитаемые земли, потом к южным берегам Варяжского моря склоняющиеся области, то есть Курляндцев, Жмудь, Литву, остатки старых Пруссов и мекленбургских Вендов, которые все славянского племени, хотя много отмет в языках имеют; наконец распростёршиеся далече на Восток славено-российским народом покорённые царства и владетельства, рассуждая, не токмо по большей половине Европы, но и по знатной части Азии распространённых Славян видим. Такое множество и могущество славенского народа, уже во дни первых князей российских известно из Нестора и из других наших и иностранных писателей» [33].
И снова обратимся к труду Е.И. Классена. Он пишет: «Чтобы найти несомненные следы Славян во всеобщей истории, надлежит выкинуть из неё все изуродованные прозвища народов и употребить вместо них одно всем им общее племенное название…
Ясно, что Греки и Римляне желали, чтобы Славяне покорились им безусловно, жертвовали им не только своим достоянием, но и свободою действий, даже самою жизнью, и потому вооружали против них иноземцев, единомышленников своих, и сопротивлявшихся этому называли варварами. Это даёт повод не верить на слово ни греческим, ни римским историкам со времени духа преобладания этих двух народов, а потому все сказания, составленные ими о Славянах, должно соображать с обстоятельствами притеснителей и притеснённых и, согласно разумной критике, очищать их от клеветы, желчи, насмешки. Исполнив совестливо это дело, мы получим верный взгляд на историю Славян…» [34].
А вот что пишет Екатерина II в «Записках касательно русской истории»: «Славяне на востоке, западе и севере обладали толикими областями, что в Европе едвали осталась землица, до которой они не касались» [35].
Знаменитый древнегреческий писатель и путешественник Геродот в середине V в. до н.э. посещал Истр (Дунай), Порату (Прут), Гипанис (Южный Буг), Тиру (Днестр), Борисфен (Днепр); останавливался в Счастливой Оливии, которая была построена в VII веке до н.э. милетскими выходцами на берегу Бугского залива, а также в других городах Черноморского побережья. В своей «Истории» он рассказал о Скифах-пахарях на Буге и Днестре и о Скифах-земледельцах на Днепре. Учёные, которые добросовестно исследовали этот вопрос, утверждают, что и здесь речь идет о Славянах.
Геродот описывает многие племена и народы Причерноморья, прямо указывая на родство культур Эллинов и Славян-Будинов, живших в верховьях Дона. «Будины, — говорит он, — большое многочисленное племя; у всех их светлоголубые глаза и светлые волосы. В их земле находится деревянный город под названием Гелон. Каждая сторона городской стены в 30 стадий (1 стадия равна 125 шагам). Городская стена высокая и вся деревянная. Из дерева построены также дома и светилища. Ибо там есть светилища эллинских богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сходные с эллинскими… После изгнания из торговых поселений они осели среди Будинов». Небезинтересны и сведения, даваемые Геродотом о нравах и обычаях другого славянского племени — Невров. «Эти люди, — сообщает он в своём сочинении, — по-видимому, колдуны. Скифы и живущие среди них Эллины по крайней мере, утверждают, что каждый Невр ежегодно на несколько дней обращается в вола, а заем снова принимает человеческий облик».
Шафарик Павел Йозеф (1795-1861), автор «Славянских древностей», а вслед за ним и многие другие учёные также считают гродотовых Невров Славянами. Соотечественник Шафарика, чешский археолог Нидерле Любор (1865-1944) писал по этому повод: «Весьма правдоподобно, что Невры Геродота были Славянами и что вообще уже в это время все страны на восток от Вислы и Карпат были занятые словенским населением, которое, судя по всему, заселяло часть Галичины, Волынь, Подолино и, кроме местностей по Припяти и верхнему течению Днепра, также, вероятно, и часть Западной Украины». В Лаврентьевской летописи, что особенно важно, тоже сказано, что Невры или Нуры, Норци — «еже суть Славяне».
Это название сохранилось в ряде географических обозначений: местность между средним течением Вислы и Западного Буга до недавнего времени называлась Нурской землёй; в Галиции и Польше и сейчас встречаются такие названия рек и населённый мест, как Нуры, Нурец, Нур. О Неврах упоминает и Плиний, отмечая, что в их стране находятся истоки Днепра.
Название «невры» существовало задолго до начала нового летоисчисления и дошло до первых христианских летописцев. Потом Славяно-Ариев стали называть Венедами, о чём свидетельствуют Тацит, Плиний и Птолемей. Последний поставил Венедов в ряд «величайших племён», а Тацит сообщил, что они строят дома, употребляют щиты в бою и «охотно передвигются пешком, причём быстро».
Иордан Готский в труде «О происхождении и деяниях Гетов» указыват, что у северного склона Карпат, «начиная от места рождения Вистулы (Вислы), на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя Венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, всё же преимущественно они называются Склавинами и Антами.
Склавины живут от города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским (озеро Балатон), до Данастра (Днестра), а на север — до Висклы (Вислы). Анты же — сильнейшие из обоих племён — распространяются от Данастра до Данапра (Днепра), там, где Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от друой на расстояние многих переходов» [36].
Велесова книга свидетельствует: «…несколько веков тому назад мы были Антами на Русской равнине, а в древности были Русами — и ныне пребываем ими». А вот что пишет академик А.А. Шахматов (1864-1920): «Славяне и Анты — это две отрасли некогда единого племени. Анты — восточная часть этого распавшегося племени. Всё, что мы знаем об Антах, с совершенной ясностью ведёт нас к признанию их восточными Славянами, следовательно, предками Русских».
Тацит говорит, что Германцы ещё не знали городов, тогда как Славяне имели их во множестве. Константин Багрянородный пишет, что Славяне на землях нынешней Германии ещё задолго до призвания варягов имели укреплённые и многолюдные города, каждый из которых был обнесён рвом, валом и палисадами. В 866 году они уже насчитывали у Славян до 4000 городов: Унны-Россы имели 148 городов, Великорусы — 180, Савейские Руссы — 212, Хазары-Руссы — 250. Классен дополняет: Бужане имели 231 город, Волыняне — 70, Нареване -78, а Оуличи — 318. Иордан Готский в VI веке пишет, что в 350 году Новгород был покорён Готами, а это значит, что за 500 лет до призвания варягов Новгород уже был уреплённым городом.
По летописным данным видно, что все значительные города России процветали задолго до христианства.
Скандинавы называли Ryszaland, то есть землю Руссов, Россию — «Gaardarikr», то есть государством, из городов состоящим, ибо «Gaarda» — города, «rikr» — царство. Побудить Скандинавов дать России такое название могло лишь их удивление перед тем, чего у них самих не было, то есть перед обилием укреплённых городов. Что касается Скандинавии, то она в то время называлась Скотланд (т.е. «скотская земля»).
В статье «Были и небылицы о древней Руси» Л.Н. Рыжков (см. сборник «Мифы древних славян») утверждает, что «…вплоть до границ нынешней Франции разливалось славянское «море» единого этноса, говорившего на почти едином языке, не испорченном ещё немецкими, турецкими, джунгарскими, арабскими и другими завоевателями. Лейпциг в те времена назывался Липском и был центром славянской области Лужичан, потомки которых живут там и поныне. Дрезден был Дроздянами, Мейсен — Мишнами, Мерзебург — Межибором, а населяли все эти земли — Нишане, Мильчане, Седличане, Дечане и Хутичи; а на севере знаменитый Бранденбург величался Бранибором — центром обширных славянски княжеств, которые были завоёваны Немцами лишь в середине XII века. Это всё — в границах нынешней Германии, не говоря уже о Польше. А далее, на юг, вплоть до Червонной (Красной) Руси, вошедшей в состав государства Русь в 981 году, простиралась Великоморавская держава Славян, которая до сих пор Украинцами называется Угорщиной, а тогда на берегу Дуная стояли Вышеград и Новгород, Печи (современный Пешт). Эта область Венгрии, вплоть до 1400-1600 годов называлась Новоградом. Хунгары (Джунгары, Уйгуры) завоевали и стали порабощать эту страну только в X веке. А ещё южнее была Валахия и Болгарское царство. Даже Австрия (Острия), ещё не подвергавшаяся к тому времени глубокой германизации, управлялась славянскими князьями, с городами Виндебож (Вена), Светла (Цвель), Ракоусы и др…
…можно со всей определённостью сказать, что единый народ славянский в I веке был, причём не разделённый ещё на западных, восточнык и южных, а единый этнос Венедов-Славян, назывался так по культу Венеры-Лады и оставил по всей Европе топонимические следы от нашей Ладоги до швейцарских «ладинов»: Вена, Венев, Венгрия, Иена, Венерн, Венессен, Венло, Венето, Венсенн, Ладенбург, Ладога… В Голландии жили Ингвеоны (Junge Waonen), на острове озера Маларсее — «Малая Россия» (Malarsee) жили Венды (Wendel), во Франции были Вендеи (Wendaern), в Германии (в Шпреевальде) до сих пор ещё живут Венеды! (Wenden), которые как венецианцы ездят на чёрных челнах. В современном скандинавском языке «van» — «вен» означает «дуг», в немецком «die Wonne» — блаженство, «das Wunder» — чудо. Немцы, переименовав славянскую Венеру в Фрею, обозначили её именем многие положительные понятия: женщина (die Frau), свободный (frei), свежий (frisch), храбрый (frech), благочестивый (fromm), весна (fruhling), радость (freude), друг (freund), мир (friede), плод (frucht). От культа Венеры у Россиян-Венедов остался «обряд венчания». «Именно под этим именем — «Венеды», — продолжает Рыжков, — как раз в I веке упоминает Славян римский историк Плиний, не разделяя пока их на западных — «Венедов» и восточных Славян античности — «Антов». Более того, Венера в Древнем Риме почиталась как прародительница римского народа, а Рим основал сын Венеры — троянец Эней, спасшийся после разгрома Трои. Слог Aen в латинском написании Энея — Aenea — правильно читать как Ven (Вен), и мы тогда получим для Энея прочтение «Веней», для Энейцев — «Венеды» (Aeneadae), а для поэмы Вергилия «Энеида» — «Венеида». По аналогии слово «храм» прозвучит как «ведес» (aedes), «воздух» — как «веер» (aer), а знаменитый латинский «эфир» (aether) — как «ветер». И нас не будет уже удивлять, почему «по-древнеримски» топор — это «секира» (от глагола «сеч»), а пастух — «пастор» (от глагола «пасти»); латинский «окулист» — от слова «око», а «юстиция» — от слов «уставить, устав, уста». Станет понятным, почему абсолютно сходно с русским языком звучат латинские глаголы «вертеть», «волить», «видеть», «орати» (пахать) и так далее…» [37].
Древняя Эллада была, мягко говоря, умственным нахлебником Славян, но, называя и Скифами и варварами, тщательно это скрывала. Е.И. Классен пишет: «Главное племя Мизии и Македонии состояло из Славян. Страна их называлась Славинею. Самыми первыми поселенцами этой страны были Пеласги, которые, по несомненным доводам г. Черткова в его исследовании пеласгофракийских племён, оказались также Славянами.
Дальнейшим подтверждением того, что Македонцы действительно были Славянами, пусть послужит следующее: после падения Македонского царства, около 320 года до Р.Х., часть македонцев переселилась к Балтийскому морю и основала свои новые жилища под названием Бодричей, сохранивших до самого падения своего герб Александра Македонского, изображающий Буцефала и грифа. А вскоре после того одна часть их снова переселилась на Ильмень и Ловать» [38].
Эти свидетельства заимствованы из трудов греческих и римских летописцев, и из Илиады. Греки называют Троян, Македонцев и Фригиян Фракийцами, да и сами Трояне так же называли себя, а вместе с тем и подвластных себе Фракийцев и союзных Македонцев. Кроме того, имея данные Классена, ссылающегося на Ф.М. Апендини, о том, что Фракийцы и Македонцы говорил на славянском языке, имея подробнейшие выводы А.Д. Черткова о пеласго-фракийском племени, мы утверждаем несомненно, что Фракийцы были Славянами, следовательно, и Троянцы — также.
В троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, где оседали Руссы, мы находим реки этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; в описания того времени здесь обозначена страна Рось и народ того же имени, названный впоследствии Скифами. Аракс назывался Арабами Эль-Рас; Монголами — Орсай и Расха; Греками — Раса и Орос. Волга тоже называлась Рсою, когда подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны. Это же имя сохранила река Руса или Порусье в Новгородской области, где находилась Русь днепровская или Поросяне; Русское море или Чёрное, где была Русь чёрная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая правый рука Мемеля или Немана, по которой сидела, по всему её течению, Русь алаунская, дошедшая до взморья и распространившаяся по нему налево до Руси, что ныне Фриш-Гаф (Пифеяс), а направо — по всему заливу, где названа она поморскою.
Классен обращается ещё к одному древнему источнику сведений. В известной «Песне о полку Игореве» говорится:
«О Бояне, соловью старого времени! Абы ты сиа пльки ущекотал, скача славию по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы об пола сего времени, рища в тропу Трояню чрез поля и горы».
Из этого отрывка мы узнаём следующее:
1. Что певец Игоревых полков называет какого-то Бояна соловьём старого времени, то есть певцом давно минувших времен. Следовательно, Боян либо описывал древние события, либо сам принадлежал к числу древних поэтов.
2. Следующие строки: «Скача славию по мыслену древу» и «Боян бо вещий аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслию по древу» переводятся на современный язык соответственно как «скача соловьем по мысленному древу» и «Боян, возжелав воспеть кого-либо, растекался мыслию по древу».
Что же здесь подразумевается под словом «древо»? Нет сомнения, что это слово не представляет собой красноречивое преуеличение, а есть простое указание на то, что Боян писал ещё до изобретения папируса, а потому пользовался, по тогдашнему обыкновению, деревянными дощечками, на каких писали некогда и Руссы, по свидетельствам Ибн-Эль-Недима и на которых была записана Велесова книга.
Следовательно, Боян был древним поэтом, ибо писал, скорее всего, «чертами и резами»», то есть славянской руницей.
3. Далее мы находим в тексте Игориады: «А бы ты сия пльки ущекотал,.. рища в тропу Трояню».
Это значит: «Если б ты воспел полки Игоревы, ты бы так же воспел их, как и войну Троянскую». Но у нас из стихотворений о Трое только и есть одна Илиада, и мы можем не только предположить, но и утвердительно заключить, что Илиаду писал Боян.
Далее Классен считает ошибочным заключение историка Н.М. Карамзина (1766-1826) о том, что слова «в тропу Трояню» означают: in via Trajani — «в путь Троянов». Можно ли что-то воспеть в чей бы то ни было путь? Поют в склад и лад другого, но не в путь. Да и дальнейший текст Игориады «вступила (обида) девою на землю Трояню» ясно говорит нам, что речь идет об Илионе…
Спрашивам опять: не был ли Боян только переводчиком Илиады? На это нам отвечат текст Игориады в двух местах: нет.
Выражение «летая умом под облакы» — ясно говорит нам, что Боян, сочиняя, возносился умом до облаков, чего переводчику делать не нужно, когда мысли уже лежат пред ним готовые и нужны только слова для перевода их.
Строки «Боян же вещий не 10 соколов на стао лебедей пущаше, но свои вещие персты на живая струны вскладаше, они же сами князем славу рокотаху» — свидетельствует, в свою очередь, что Боян был вдохновенным поэтом, что ему нужны были для сочинения не силы вещественные, а воодушевление, и тогда струны под его перстами сами славили князя.
На вопрос: на каком языке была первоначально написана Илиада — решительно отвечаем: не на греческом, ибо Ликург (IX-VIII в. до н.э.) нашел первые 8 её песен в Кеми, городе троянском, построенном после падения Трои. Почему же Греки в продолжение трёх столетий от покорения Трои не знали об этом сочинении, неужели оно могло так долго укрываться от них, если было их собственное?
Семь греческих городов спорили о местонахождении автора Илиады, но потому только, что в каждом из них найдено по несколько вариантов тех же кемеянских или кемских песен, которые могли легко попасть туда из Кеми, оказавшейся впоследствии во власти Греков.
Следовательно, Боян или Омир (вымышленное имя, коим подписана Илиада) был Кемеянином, что подтверждают и сами Греки, говоря, что слово «омир» не есть имя певца, а означает на кемеянском языке слепца. Это, в свою очередь, говорит о том, что Илиада изначально была написана не на греческом языке, иначе иностранное для Греков слово, означающее не более как слепца, не могло появиться в качестве имени сочинителя.
Поставив в один ряд со всеми этими доводами иные — присвоенные Греками в пользу своей истории — сведения в нейтральное положение, продолжим наши выводы.
Наименование Кеми, место рождения Илиады, не только не чуждо славянскому миру, но повторяется и в самой России в разных местах, например: Кемино — городок в познанском округе; Кемтендей — река в Иркутске; Кемь-город на севере Карелии; озеро Кемское, речка Кемь и несколько деревень того же имени в округе.
Теперь вернёмся к Игориаде. Далее мы в ней читаем: «Чили воспети было вещий Бояне, Велесов внуче». Здесь сочинитель Игориады называет Бояна, певца Илиады, Велесовым внуком. Но Велес был божеством у Руссов. Спрашиваем: может ли грек, или вообще иностранец, быть названным внуком славянского божества, особенно тогда, когда Греки имели постоянные распри с Руссами и прочими Славянами? Нет, не может. Поэтому певец Илиады, то есть Боян, должен был быть Руссом.
Далее в Игориаде мы читаем: «Уже бо братие, не весёлая година встала! Уже пустыни силу покрыли. Встала обида в силах Дажь-бога внука, вступила (обида) девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылами на синем море, у Дона плещу-чи; убуди жирня времена. Усобица князем на поганыя погибе, рекота бо брат брату: се мое, а то мое же; и начаша Князи про малое се великое мльвити, а сами на себе крамолу ковати; а погани с всех стран прихождаху с победами на землю Русскую».
Здесь сказитель говорит о тяжких временах, о том, что пустыни покрыли те места, где прежде процветала сила народная. Но что же он причисляет к пустыням? На это он ясно отвечает: «Землю Трояню, окрестности синего моря и протяжение вдоль Дона», то есть троянскую и русскую земли. Что прибрежья синего моря были некогда заселены Славяно-Руссами, явствует уже из преданий, сохранившихся в народных песнях и сказках, переносящих весь быт Славяно-Арийского востока на синее море, подобно тому, как Славяно-Арийский запад сосредотачивается по Дунаю. Спрашиваем: что заставило его поставить Трою в один ряд с Россией и даже назвать и ту и другую страны силою Дажьбожьего внука, Славяно-Арийского божества?
Создатель Игориады признаёт Илион славянским и русским городом как истину, давно известную и несомненную. Трою и Русь населял не просто один и тот же народ, а один его род; следовательно, Руссы были Троянами и наоборот — Трояне были Руссами. Но многочисленные рода Руссов не моги вместиться в Трое, тогда как часть Руссов, очевидно, могла построить Илион. Прозвания: Трояне, Дардане, Тевкры Фракийцы и Пеласги — не суть собственный имена народа, а только нарицательные, как мы видели выше. Следовательно, Руссы это название всего народа, заселявшего Трою.
Это подтверждается с ещё большей очевидностью тем, что Трояне и Руссы имели общие предания, однозвучные и часто одинаковые имена, одинаковое оружие, обряды и обычаи.
Далее творец Игориады говорит, в каком виде вступила «обида» в земли русские: в Трою — девою; это намёк или на Гесиону, похищенную Гераклом, или на Елену увлечённую Парисом; в Россию же она вступила притязаниями князей на доли в дележе наследий, как следствие их междоусобия. Здесь певец, соединяя Трою и Русь воедино, в один народ, горюет, приводя к одному знаменателю бедствия, его постигшие [39].
А вот что говорится в Велесовой книге: «…Индра шёл за нами, как шёл за отцами нашими на Ромеев в Трояновой земле» [40]. Это ещё раз заcтавляет нас сделать вывод, что в Троянских землях некогда проживали Руссы.
П.А. Лукашевич (1809-1887) в своём исследовании «Чаромятие, или священный язык магов, волхвов и жрецов» пишет, что под ударами Монголов и Арабов погибли все Славяне Персии и Малой Азии, части Фракии и части Македонии. Дакия обезлюдела, а в Паннонию вкочевала калмыцка, или монгольская, орда, ныне называющаяся Мадьярами. Славяно-Русские народы, богохранимые от всякой лжи и скверны, более, чем кто-либо, противоборствовали диким Монголам и прикрывали юго-запад Европы от истребления [41].
Полупросвещённые Немцы, выйдя из тёмного угла Европы с помощью побеждённых ими Галлов, начали покорение Славян, пользуясь их раздорами, прельщая славянских царей и князей своей «верностью» и «усердием». Так что славянские владыки с большой охотой отдавали им свои обширные земли для заселения, которые новые поселенцы употребляли лишь для своей пользы, не делясь со Славянами ни крохой. И когда эти области подпадали под прямую власть Немцев, новые поселенцы становились деятельными помощниками в угнетении коренных народов, то есть Славян. В следствие этого Силезия совершенно онемечилась. Таким образом, начиная от пределов Голландии и обоих берегов Рейна, они продвигались далее и далее на Восток и в продолжение тысячелетия основали на славянских землях одну Праву (империю, Kaiserthum), четыре королевства и множество мелких владений.
Становление Византии и Царьграда как столицы и средоточия Римской Правы, положило начало разъединению азиатских и европейских Славян. О былой величине земли Российской до её захвата иудохристианами можно судить по словам Светослава Хоробре, которые он говорил «в лето 6477 (960 г.)» своей матери и боярам своим: «Не любо ми есть в Киеве быти, хочу жити в Переяславци на Дунаи, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато, поволоки, вина и овощевыя разнолчныя, из Чех же, из Угорь сребро и комони…»
Промышленность Славян опережала промыслы других народов. Так, по свидетельству Климента Александрийского (II в.), прежде всех изобрели сталь Норопы или Норичи, жившие в Нанонии. В саксонском горном календаре на 1783 год сказано, что Славяне первые начали обрабатывать руду и им принадлежали все первые горные разработки. Классен сообщает, что в Мекленбург (древнем Микилине), на южной стороне Толленского озера, в Приливце (ныне Прильвиц) найдены медные изображения Славяно-Арийских божеств; следовательно, Славяно-Арии занималсь не одними горными разработками, но и плавильным и лтейным искусствами.
Создатель жизнеописания св. Оттона говорит о четырёх славянских храмах, стоявших в Штеттине до нашествия иудохристианства. Главныей из них отличался своим строением и внутренним убранством, будучи украшен иображениями людей, птиц, зверей, столь сходных с натурой, что они казались живыми. Краски на стенах храма не смывались дождём, не бледнели и не тускнели. Спрашивается: существовало ли это искусство — сохранять свежесть красок на наружных стенах где-либо в Европе у других народов, почитающих себя находящимися в зените просвещения?
Нестор как добросовестный инок называет Новгородские владения «всем обильными»; что же он подразумевал под обилием? Не леса и земли, разумеется, но всё то, что дают промышленность и торговля.
Торговля у Славяно-Руссов была развита в совершенстве. Классен пишет, что в Европейской Сарматии Славяне имели четыре торговый вольных области: Винетскую или Волынскую (Wolini, Waloini, Vulini), Псковскую (Pcukini), Новгородскую и Бугскую (Budini). Первая находилась на острове Винет (ныне Готланд), называвшемся также Волин (Wolin — вольный). На острове был город, названный германцами Винетою, который именовался Выжба (ныне Wisbu).
Гельмольд, почти современник Нестора, пишет, что Винета славилась всякого рода торговлей, к ней стекались народы всех стран, и она почиталась многолюднейшим в Европе городом. Действительно, на острове Готланд до XVII века сохранилось предание о том, что с востока, по Волге, доставлялись туда товары индийские, персидские и арабские.
Не удивительно, что название Волги надолго осталось в памяти живущих на острове, ибо на Готланде и теперь есть река по имени Волжица. Возможно, Венеты сами когда-либо жили на Волге и, памятуя о том, назвали свою речонку Волжицею. Возможно и то, что, применяясь к пословице (до которых Славяне большие охотники) «с моря да на лужицу», они хотели отметить, что товар идёт с Волги да на Волжицу.
Древняя Винета или Выжба была разрушена в 1177 году датским королем Вальдемаром и, не имея возможности достижения прежнего величия, вынуждена была войти в союз с Ганзою. Свено Агонис, скандинавский писатель-учёный XII века, называет её Hunisburg (городом Гуннов), а северогерманский летописец Адам Бременский — скифским городом. Это новые подтверждения того, что Винета была славянским городом.
Новгородские и Псковские земли были такими же торговыми областями: об этом говорят наши русские летописи и последующее уастие этих городов в Ганзейском союзе, а также упоминавшийся торговый путь в Винету через Волгу, следовательно, и через Новгород. Кроме того, есть сведения некоторых византийских летописцев, что Новгород ещё в VI веке славился особенным богатством, чего без торговли быть не могло.
Четвёртая область была на Буге, у южных Будинов; она также называлась Волынской или Волинской. Её главный город Гелонь (по Геродоту) неизвестен в настоящее время. Ясно, что это была область, а не город, так как Дулебы, впоследствии присоединившиеся к ней, прозывались Волынянами (Нестор). Но так как сама торговля и торговые пути никогда не бывают постоянными, то такая же судьба постигает и области, и города. Волынская торговая область пала, по-видимому, прежде всех, потому что в летописях до Р.Х. нет её заметных следов. За ней последовали и все прочие.
Славяне вели непосредственную торговлю с Финикийцами. Это видно из того, что последние торговали, среди прочих предметов, и оловом, за которым ездил в Британию. Британия имела постоянные сношения с Винетой, а потому Финикийцы не могли упустить случая самим заполучить Винету в качестве торгового партнёра. Одно уже название фиников говорит нам, что Руссы, или, по крайней мере, Винеты имели прямую связь с Финикийцами: если бы Славяне получали этот плод от Скандинавов или Германцев, то им неоткуда было бы взять для него название, так как Немцы называют его даттель (Dattel), Датчане — даддель (Daddel), а Шведы — дадель (Dadel).
Греки уже за 700 лет до Р.Х. получили сведения о народе Руссов, торговавшем янтарем (Aost). Их они назвали Aost-Rsi, для отличия от прочих российских народов. Позднее это имя перешло уже в Ao-Rsi и Udi(Uti)-Rsi (так назывались у Греков Унны-Руссы, или просто Унны), а отсюда произошли имена: Adorsi, Attorsi, Attorozzi и прочие. Каждый летописец произносил их на свой лад.
Не лишним будет пример, раскрывающий происхождение слова «безмен». Его считают скандинавским, а сам этот прибор — изобретением недавнего времени, но это ошибка. Безмен называется у скандинавов «Buszman», и нельзя найти подобного корня во всех наречиях германского происхождения. Но если бы кто-то вздумал разделить его на два слова — Bisz и Mann, то заставил бы только смеяться над собой, ибо Bisz или Biss — от beissen, кусать — значит укус; Mann — муж; можно ли из таких слов составить название для приспособления, употреблемого вместо весов? Славянский корень этого слова легко определить, стоит только само слово разделить на два, от существительного имени отделить предлог, и будет «без мен»», то есть без мены, на деньги.
Очевидно, что Скандинавы сами заимствовал это слово у Славян, и что безмен ещё в давние времена изобрели Славяне. То же относится и к слову «бизнес», которое также не имеет корней ни в одном из других языков, кроме славянских наречий. Оно было перенято иностранцами у наших купцов, говоривших при неудачной сделке, что они осталсь «с носом», и в шутку ещё и показывавших, приставив большой палец руки к своему носу и раздвинув осталные пальцы, с каким именно носом, При удаче же говорили, что их торговля сделана «без носа»», то есть с прибылью. Ныне же этой расхожей шуткой русских купцов пользуются, не ведая её шутливого происхождения, серьёзные торговцы всего мира.
Культура и нравственность Славян были на высоком уровне. Классен приводит много примеров, свидетельствующих, что «честь и слава были исходными точками всех действий этого великого народа», и для большего убеждения делает ещё и сравнение между германскими и славянскими народами. Он отмечает, что заря германского просвещения относится к VIII веку — временам Карломана. Но возьмите германское сочинение того времени и сравните его с переводом на славянский язык Евангелия, относящимся у Руссов к более древним против VIII века временам, и вы увидите, что славянская книжность, судя по развитию языка, его силе, красоте, богатству, полноте и звучности гораздо выше германской даже XVII века. А поскольку богатство языка приобретается от развития «умодеятельной жизни», то очевидно, что культура Славян развилась гораздо ранее германской. При этом множество слов, существующих у образованного славянского народа, заимствовали Скандинавы это говорит о том, что Славяне были образованнее скандинавских народов.
Классен отмечает, что Славяне своих богов называли именами, «имеющими смысл на коренном славянском языке; а Скандинавы заимствовали у них всю свою мифологию, прибавив к ней только имена Славян, ими же возведённых в достоинство богов. От этого скандинавские боги и жили все на горе Иде, то есть в древней Троянской Руси и в Асгарде, то есть у Азовского моря, между народами Азов или Язей».
В Wanaheimr, то есть к Венетам (к числу которых принадлежали и новгородцы), ходили скандинавские герои и боговдохновлённые люди для изучения мудрости. Подтверждение этому можно найти в большей части скандинавских саг. Спрашивается: кто же у кого учился?
Жители Балтийского поморья — Венеты-Славяне, в 216 году до н.э. сильно теснимые Готами, должны были уступить им янтарные прииски и большую часть своих жилищ и волей-неволей куда-нибудь подвинуться. Но поскольку Венеты были торговым народом, то двигаться внутрь нынешней Германии (в земели, принадлежащие тогда Славянам) им было невыгодно, и они выбрали себе земли на северо-востоке от старых жилищ, поближе к торговому пути в Азию, начав селиться на Ильмене и Ловати (Птолемей). Вероятно, с того времени из-за значительного расстояния между этими двумя поселениями, разделились и их интересы, так что образовались две разлчные торговые области, какими мы их видим уже при появлении варягов. Поселенцы на Ловати образовали Псковскую общину (псковитяне были известны всем древним летописцам под именем Псукинов — «Pcucini»), а на Ильмене — Новгродскую (называвшуюся прежде Славянскою, а у Скандинавов — Венетскою).
Хотя впоследствии, а именно в 166 году н.э., Руссы (Roholani, Rohalani), пришедшие к янтарным берегам, и выгнали Готов с поморья (Птолемей), поселенцы на Ильмене и Ловати, в течение почти четырёх веков уже освоившиеся на своих новых местах, не искали прежних своих жилищ, а остались там, где торговля наградила их многими благами. Ильменские поселенцы построил город, названный Новгородом (это заставляет добросовестного летописца искать Старград). О нём мы узнаем только в IV веке, когда его громили Готы под предводительством своего атамана Эрмана. Новгородцы вновь были вытеснены и вынуждены были на этот раз двинуться внутрь России.
Историки напрасно называют готских владык королями и царями. Сами Готы называли их словом «Rzik», произносившимся как «рик» и означающим не короля, не царя, а нечто, соответствующее казацкому «атаман» или «гетман». Историки делают ошибку, прибавляя к концу их имён слово «рик», как, например, король Эрманрик, король Гильнерик, что означает: король Эрман-гетман, король Гильне-гетман.
Во время переселения Венетов на Ильмень и Ловать опустело несколько славянских городов близ Балтийского поморья, слывших под названием «Градек», а впоследствии прозванных Старыми Городами (Старград — ныне Stargard). Это доказывает, что город, построенный Славянами на Ильмене, назван Новым Градом для отличия от оставленного ими, и потому прозванного тогда же Старым Градом, или Старградом.
Так как Славяне строили деревянные города, что делалось весьма скоро, то нет сомнения, что Новгрод был построен при самом начале переселения Славян на Ильмень, и его возникновение должно относится к тому же времени, то есть к 216 гду до н.э. Из этого следует, что Новгород был построен за 1098 лет до призвания варягов.
Со времени своего основания Новгород вёл торговлю, которая бурно развивалась. Вследствие чего знаменитейший торговый город Винета (Выжба) не мог, по своему отдалению от торгового пути, шедшего через Россию, соперничать с ним. В Винете торговля стала постепенно замирать, и, наконец, город до того обезсилел, что в 1171 год не мог противостоять Датчанам, совершенно его разорившим.
Немецкие летописцы пишут, что Винета на Волыни была в V веке величайшим и богатейшшм городом, в котором можно было найти всё, что ни пожелаешь. Что был там даже вулканов горшок, называемый туземцами греческим огнём, что на пристанях его находилось всегда безчисленное множество кораблей всех народов, а в самом городе — полна веротерпимость, и что иностранцы не допускались только в светилище Волынцев; что жил в нём Венеды-Алане, Саксы и множество Греков. Из описаний этого города явствует, что торговля и промышленность были в этой стране на высоком уровне развития, а искусства затмевал своим совершенством всё известное у друих народов. Адам Бременский называет Винету в одном месте склавонским (славянским), а в другом — скифским гордом; Свено Агонис — гуннским (Хуннинсбуг). Занимавшееся Винетою пространство составляло около 20 квадратных верст. Её место, говорит Адам Бременский, за рекой Отдарою (Одер).
На скалистом острове Рюген, в русских сказаниях известном как остров Буян, находящемся у южного побережья Балтийского (Варяжского) моря, располагались ещё два могущественных по тому времени славянских города — Ретра и Аркона. Островитяне на протяжение веков успешно боролись с Немцами и Датчанами, отбиваясь от христианизации, ибо рюгеновские храмы (от славянского «храны» — хранилища) были посвещены Всевышнему Богу — Сварогу и Сварожичам [42] — богам Солнца, Света и Огня. Сварожичи носили разные имена: Хорс, Дажьбог, Свентовит, Радегаст, Белбог, Перун, но представляли, в сущности, одну светоносную силу — Единого Всевышнего Бога (Изначальный Свет — Ра). Особенно прославились два хама, посвещённые Радегасту (Рад гостю) и Свентовиту (Свету — победителю). Храм Радегаста в Ретре описан Дитмаром Мерзебургским и Адамом Бременским, а храм Свентовита в Арконе пространно описан Саксоном Грамматиком.
В борьбе с Немцами и Датчанами в XI веке Ретра ослабела, а Аркона возвысилась, особенно при короле Курко (1066-1105), когда Аркона стала политическим и духовным центром всех островитян. Саксон Грамматик, датский летописец XII века, нарисовал следующую картину:
Посреди городской площади Арконы возвышался великолепный деревянный храм, искусно урашенный резьбой и лепниной. Внутри храма, увешанного до самого пола коврами, стоял большой, выше человеческого роста, куммир — извание Свентовита — Духовного Отца всего мироздания. В правой руке он держал рог, сделанный из различных металлов, наполненный вином, а левая рука упиралсь в бок. Он был одет в длинные одежды, ниспадающие до бёдер, которые были составлены из различных пород деревьев и так искусно были соединены с коленами, что только при пристальном рассматривании можно было различить соединения; ступни находились наравне с землёй и опирались на скрытое под полом основание здания. Подле куммира лежали узда, седло и меч огромной величины с отличной серебряной отделкой. Изваяние охраняла гвардия из трёхсот конных воинов и стольких же пеших стрелков. При куммире хранились большие сокровища и находился белый конь, за которым ухаживал жрец. Славяне считали, что на этом коне ездит в неурочное время сам Свентовит и сражается со своими неприятелями. Конь служил также для прорицаний. Рюгенцы верили, что через свещенного коня Свентовит выражает свою волю. Если конь, перешагивал через копья, поднимал прежде правую ногу, то считалось, что Свентовит благословляет на то или иное задуманное предприятие, например, начало военных действий. Если же конь ступал левой ногою, то предприятие откладывалось.
При храме хранились воинские знамёна. Свентовит был покровителем искусства и торговли, и любой заезжий купец мог приступить к торгам, заплатив жрецам Свентовита определённую плату.
Жрецы храма обладали большими сокровищами и пользовались исключителным влиянием. Вся общественная власть находилась под их наблюдением, и никто не осмеливался предпринять ни одного шага, не испросив на то божественного благословения.
В честь Свентовита ежегодно проводился торжественный праздник. Вскоре после жатвы перед храмом собирались жители острова и приносили благодарственные жертвы. Жрец Свентовита, который вопреки обыкновению жителей не стригся и не брился, на виду у всех брал рог из рук куммира: если он находил, что вина убыло или испарилось больше, чем предполагалось, то он возвещал безплодный год и повелевал беречь хлеб; если вино в роге стояло на нужном уровне, то предсказывался плодородный год, и хлеб можно было употреблять, не заботясь о запасах. Затем жрец выливал старое вино к ногам изваяния, наполнял рог новым вином, чтил Свентовита и произносил речь, в которой желал себе и гражданам счастья, умножения богатства и побед отечеству, осушал рог, наполнял его вновь и передавал в руки куммира.
На этом празднике пекли круглый, сладкий, необыкновенной величины пирог. Жрец ставил его между собой и народом и спрашивал, видят ли его присутствующие, и если ему отвечали, что видят, жрец говорил, что хотел бы, чтобы следующий год был так плодороден, чтобы его за пирогом совсем не было видно.
В заключение верховный жрец приветствовал народ именем Всевышнего, убеждал всех ревностно приносить жертвы и обещал за это непреложную победу на суше и на море.
Богослужение завершалось свещенным пиром, на котором ели и пили без всякой меры, так как умеренность на этом пиру, по словам Саксона Грамматика, принималась за обиду божества.
Для содержания храма каждый житель давал монету. Кроме того, храму выделялась третья часть военной добычи. Приносили дары Свентовиту и жители других Славяно-Арийских земель. Так, например, король по имени Свенон преподнёс куммиру золотую чашу. Свентовиту предназначались и богатства, добытые на войне личной охраной куммира, и богатства эти, по свидетельству Саксона, были немалые.
Саксон Грамматик высказал предположение, что поклонение святому Виту происходит от Свентовита. Это предположение поддерживал знаток славянских древностей Шафарик. Корень «вит» означает достоинство человеческой природы. Отсюда — витязь, витяжество (победа), вития (красноречие, мудрость). Следовательно, Свентовит буквально означает «свет-победиель», а если учесть, что корень «вит» имеет ещё одно значение — такое же, как и санскритское viti, означающее «свет», то выходит «свет-светов», что напоминает известные словосочетания «свят-свят» или «светлым-светло».
Дитмар Мерзебургский, как уже упоминалось, описал храм Радегаста в городе Ретре. В этом храме, по его свидетельству, стояли вооружённые боги, исчерченные таинственными письменами. Посреди всех стояло главное изваяние Радегаста, которого немецкий летописец прямо называет Сварожичем. Обряды, связанные с почитанием Радегаста-Сварожича, мало чем отличаются от арконских. Здесь также хранились воинские знамёна, богатства и дары, и был свещенный конь-прорицатель. Как и арконцы, ретари в затруднительных случая прибегали к волхованию и жребию (от слова «жеребец»), выводя на круг свещенного коня и внимательно следя, как он пройдет сквозь воткнутые в землю копья.
О красоте и велколепии славянских храмов в те времена ходили по миру легенды. Одну из них поведал нам знаменитый арабский путешественник и писатель X века Абуль-Хасан Али ибн-Хусейн, известный как Аль-Масуди. В одном из своих сочинений под названием «Золотые луга» он описывает славянские культовые сооружения, расположенные, как правило, на возвышенных местах среди живописной природы и отличающиеся как снаружи, так и изнутри необыкновенной красотой. Наружные стены Славяно-Арийских храмов украшались резными изображениями, а внутренние — пурпурными коврами искусной выделки. В хаме хранилось много рогов, покрытых резьбою, золотая и серебряная утварь, жертвенные чаши, тарелки, ножи, колокола и прочее. Описышая хамы, Аль-Масуди сообщает:
«В славянских краях были здания, почитаемые ими. Между другими было у них одно здание на горе, о котором писали учёные, что она одна из самых высоких гор в мире. Об этом здании существует рассказ о качестве его постройки, о расположении разнородных его камней и различных их цветах, об отверстиях, сделанных в верхней его части, о том, что построено в этих отверстиях для наблюдения над восходом солнца, о положенных туда драгоценных камнях и знаках, отмеченных в нём, которые указывают на будущие события и предостерегают от происшествий пред их осуществлением, о раздающихся в верхней его части звуках и о том, что постигается при слышании этих звуков… Ещё другое здание имели они на горе, окружённое морским рукавом; оно было построено из красного корала и зелёного смарагда. В его середине находится большой купол, под которым находится идол, коего члены сделаны из драгоценных камней четырёх родов: зленого хризолита, красного яхонта, жёлтого сердолика и белого хрусталя; голова же его из червонного золота. Насупротив его находится другой идол в образе девицы, котора приносит ему жертвы и ладан» [43].
В круге Славяно-Арийских богов свет, солнце, огонь олицетворяли ещё два Сварожича — Хорс и Перун. Связь Перуна со светоносным началом не подлежит никакому сомнению. Об этом свидетельствует само навание божества, указывающее на огонь. Корень слова «pier», «pur» во многих языках, в том числе греческом, литовском и ряде славянских означает огонь, при этом ещё Платон (427-347 до н.э.) уверждал, что греческое «pur» заимствовано у Скифов, то есть Славяно-Ариев.
Что же касатся Хорса, то и его связь со светоносным началом очевидна. Славянский корень «хор»-«хар» означает средоточие, круг, равновесие — отсюда хоровод, хоромы, хороший, хоругвь, характер, знахарь и т.д.; в бувальном же значении «хор» — это круг Солнца. С тем же значением корень «хор» перешел и в другие народы: в зендском (древнеперсидском) «хор» — Солнце; в еврейском «хархас» — блеск, сияние, «харху» — воспаление, жар; в санскритском «hri» — творить, делать, производить; в индусских преданиях Харихара — божество, объединяющее в себе черты Вишну (Хари) и Шивы (Хара); в греческой мифологии Хариты — благодетельные богини, дочери Гелиоса и океаниды Эглы; в сказаниях монгольских народов Хормуста — верховное небесное божество; в ламаистской космологии Хормуста — главный среди 33 тенгри, пребывающих на вершине Сумеру и ведущих постоянную войну с демонами — выступает как народоводитель и ипостась громовержца.
«Славянские народы занимают на земле больше места, чем в истории… Несмотря на совершенные ими подвиги, Славяне никогда не были народом воинственным, искателями приключений, как Немцы… Повсюду Славяне оседали на землях, оставленных другими народами: торговцы, земледельцы и пастухи, они обрабатывали землю и пользовались ею… По всему берегу Восточного моря, начиная от Любека, они построили морские города; Винета на острове Рюген была среди этих городов славянским Амстердамом; они вступали в союз и с Пруссаками, Курами и Леттами, о чём свидетельствуют языки этих народов… В Германии они занимались добычей руды, умели плавить металл, изливать его в формы, варили мёд, сажали плодовые деревья и, как того требовал их характер, вели весёлую, музыкальную жизнь».
Иоганн Готфрид Гердер (немецкий мыслитель, 1744-1803)
«На Славянах лежит печать глубокой, седой старины; они ревностно стоят на страже её и не порывают с прошлым. Их язык, их семейный уклад, Вера, нравы и права наследования могут служить для изучения глубочайшей древности».
В. Ген (прибалтийский немец, исследователь)
- Об этом подробнее будет сказано в части 2, гл. 1.
- Река Кубань ранее называлась Кобань, т.е. Кобанья река
- См. часть 1, гл.2 данной книги
- См.: «Древность: арьи, слаяне». М., 1996; А. Голан «Миф и символ». М, 1994.
- См.: «Древность: арьи, слаяне».
- Велесова книга. М., 1994.
- Ахма — «а» — против; «хмар» — темнота, т.е. не тёмный, а светлый.
- См. журнал «Азия и Африка» N6, 1994.
- О характерниках будет сказано подробнее в этой ж главе.
- Общественное устройство Славяно-Ариев подробнее описано в части второй, гл.1.
- Богатырь — грабитель, ибо «бог» — богатство; «тырь» — воруй, грабь.
- Журнал «Славяне» N1, 1991.
- Непря (Днепр) — «не пря» («пря», общеслав. — спор; отсюда — распря), т.е. мирная невоинственная река.
- Пифия (греч.) — жрица в Дельфийском храме, построенном в середине IX в. до н.э. по желанию Аполлона. Считалось, что этот храм помогали строить Гипербореи и что пифиями были только Славянки.
- Е.И. Классен. Указ. соч.
- Вендский язык, как у верждает Классен, есть наречие саянского.
- Об истинном самодержавии см. часть вторую, гл. 1.
- Остаться у Славяно-Ариев — то есть начать жить в соответствии с Ведическим мировоззрением.
- Об этом будет более подобно сказано в следующих главах.
- Малыш Крышний — славянский Бог — покрывающий (отсюда — крыша), т.е. оберегающий мир.
- О третьем глазе человека — энергетическом центре «Чело» (аджна чакре) — подобнее будет сказано во второй части книги в Пятом Уроке.
- Е.П. Савельев «Древняя история казачества», т.1. Новочеркасск, 1915.
- В.П. Ламанский «О Славянах в Малой Азии, Африке и Испании», СПб., 1859.
- М.А. Милер «Дон и Приазовье». Мюнхен, 1958.
- Ю.П. Миролюбов «О князе Кие, основателе Киевской Руси» (прил. к журнал «Молодая гвардия» N7). 1993.
- Б.А. Рыбаков «Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв.». М., 1993.
- Характерники — буквально: владеющие центром хара. Отсюда «харакири» — выпускание жизненной силы через центр хара, находящийся в области пупка, «к ири» — к Ирию, Славяно-Арийскому Небесному Царству; отсюда же и «знахарь» — знающий хару, с восстановления которой должно начинаться любое лечение.
- М. Накасоне «Кюдо в использовании артиллерии». С. Ичикава «Кюдо — путь лука. Естественная история», т. 33. 1933. А. Спиваковский «Самурай- военное сословие Японии». М., 1981. «Цусима: воспоминания участников». Токио, 1955. М. Инагуи «Цусима — победа духа». Токио, 1955.
- Валькирия — богиня-воительница (Перуница), помощница бога Перуна, возносит героев, павших на поле битвы в Ирий («вал» — подъём; «к Ирия» — к Ирию).
- М.И. Артамонов «Киммерийцы и скифы». Л., 1974.
- «Советский энциклопедический словарь». М., 1984.
- См. С. Лесной «История Руссов».
- Указ. соч. СПб., 1766.
- Е.И. Классен. Указ.соч.
- Указ. соч. 4.1. СПб., 1787
- Указ. соч. М., 1960.
- «Мифы древних славян». М., 1993.
- Е.И. Классен. Указ. соч.
- Велесова Книга, с.139. М., 1994
- Там же.
- Указ. соч., с.2. Петроград, 1846
- Подобнее о славянских богах будет сказано в гл. 5.
- А.Я. Гаркави «Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских».